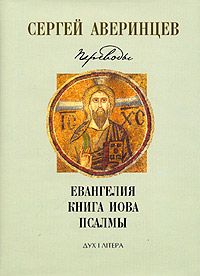Хорошо лишь то, что уехал из дому. У жены мигрень. Сын опять капризничает. Он добрый, но неустойчивый и безвольный, Никc. Не унаследовал твердости и ума отца…
Что у него самого есть ум, человек нисколько не сомневался. Да так оно, пожалуй, и было.
Человеку было сорок пять лет, но он казался старше от давно выработанной корректности и сдержанности. Высокий лоб, плоско прилизанные волосы, в удивительном соединении с ними — курчавые бакенбарды, мясистые большие уши.
Лицо сужалось к подбородку, но подбородок был тяжелым. Видимо, человек знал, чего он хочет. Мешали этому впечатлению лишь ирония в складке рта и томительная скука в глазах. Брови нависали над глазами, высоко — у переносицы, низко — у висков. И нос нависал над ртом, когда-то прямой, а теперь обвисший и толстоватый на конце.
Словом, лицо важного, почтенного бюрократа. Тревожили одни глаза. Ирония, скука, усталость, ум, черствость и неуловимое веселье органически соединялись в них. Это могли быть глаза человека, переполненного иронией, утомленного бюрократа, государственного мужа. Это были одновременно глаза верноподданного и глаза знатока мира — писателя. И самое удивительное, что так оно и было.
Человек, который ехал в карете, был Петр Александрович Валуев, без двух месяцев управляющий министерством внутренних дел, без девяти месяцев министр и ровно без девятнадцати лет граф. В прошлом нестойкий либерал, бывший любимец Николая Первого, а ныне «просвещенный консерватор» и директор двух (а всего было четыре) департаментов министерства государственных имуществ, правая рука министра Муравьева, бывшего могилевского губернатора, в будущем палача Белоруссии и Литвы.
Варфоломей вспомнил, что забыл спросить, куда ехать. Из костяной трубки послышался почтительный голос:
— Куда везти, ваша милость?
— К министру государственных имуществ.
Карета свернула на Мойку. За ствол голого тополя метнулся какой-то франт — чтоб не забрызгало грязным снегом.
Подъезжали к дому, который сановник не любил, хотя бывал в нем в годы молодости с невестой, будущей первой женой, дочерью поэта князя Вяземского. Он не мог не думать, что сделал хороший выбор.
Изо всей московской молодежи Николай наиболее любил его, Валуева, и Скарятина, даже приказал им поступить в первое отделение собственной канцелярии. Надо было укрепить благосклонность.
Вяземский был одним из самых больших любимцев царя. Неизвестно за что, потому что в доме князя бывали Столыпин и Жерве и едва ли не самым близким другом хозяина был Пушкин. Удивительная иногда связывается цепь!
Он, Валуев, был тогда фрондер, впрочем как и нынешний его шеф когда-то. Входил в «кружок шестнадцати», членами которого были тот самый Жерве, «Монго» — Столыпин, покойный Лермонтов, нынешний эмигрант — князь Браницкий. И еще — тоже эмигрант и сотрудник «Колокола» — П.В.Долгорукий. Да еще Шувалов Андрей, который нынче тоже лезет в верноподданные.
…Закрыть глаза, проезжая мимо дома, где умер Пушкин… Пушкин почему-то симпатизировал ему.
«Шестнадцать» собирались после бала, ужинали, курили и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Третьего отделения и его подвалов для них словно не существовало… Бедняга Лермонтов! Вот и с этим, после Пушкина, связала судьба.
Валуев, как всегда, открыл глаза слишком рано. Как раз поравнялся с аркой подъезда, в который привезли тогда поэта. Потом возле этого подъезда плыла скорбная толпа.
Пушкин любил его, Валуева, взял прототипом для Гринева из «Капитанской дочки»… Теперь это Валуеву было неприятно, хотя немного и щекотало где-то, когда надо было оправдываться перед собой… Мишель Лермонтов плакал, когда того убили!..
Сейчас оба мертвы. Не успели своевременно отойти от ошибочных взглядов молодости. А он — живет. Он был чиновником особых поручений при курляндском генерал-губернаторе, курляндским гражданским губернатором и…
…В глубине души он знал, что цена его «служения отчизне» ничего не стоит перед «служением» убитых, хотя они протестовали и разрушали. Кому нужно знать, кто был в Курляндии гражданским губернатором во времена Гоголя? И он в глубине души догадывался, что поэтому губернаторы и мстят поэтам: чувствуют свою мизерность и неполноценность. Мол, наживались, вредили, лизали пятки, а он в это время «Мертвые души» писал.
Но ему надо было выбирать: или умирать с голода на писательском хлебе в предчувствии славы, или бесславно служить. Он решил служить, но честолюбиво, преданно, въедливо. Людей, которые делают политику страны, тоже иногда помнят.
…Валуев оторвался от мыслей. Наконец «Северная пчела» объявила, что в «седьмое царствование Александра» («Что за глупость! Какое седьмое царствование?»), в дни поста, произойдет известное всем событие.
Он припал к окошку. Монумент Николая («дурак догоняет умного») украшен у пьедестала венками. Тоже молчаливая манифестация крайних крепостников: «Взгляни, мол, вот тебе в феврале живые цветы. Этот жестоко царствовал, о реформах и не думал, держал все стальной рукой — зато и сильной была Россия. Правда, набили под конец морду, но лучше уж с битой мордой да на рабах, чем так, как ты, государь».
На цветы летела грязная слякоть.
Была демонстрация крепостников и на панихиде по Николаю в Петропавловке. Тоже с цветами. Он улыбнулся, придумывая, что скажет на суарe у великой княгини.
«Цветы, впрочем, искусственные, такова же и демонстрация».
И снова помрачнел. Генерал-губернатор объявил во всех газетах, что никаких постановлений по крестьянскому вопросу не будет. Так нельзя. Сухой отказ, сухое слово «никаких» могло только раздражить народ.
Настроение было плохое. Чтоб улучшить его, директор департаментов, потирая узкие холодные руки, стал думать о том, что всегда радовало, — о собственном возвышении.
В глубине души он не верил в мощь системы. И именно поэтому изо всех сил старался улучшить и укрепить ее. Он знал, что новой системы ему не дождаться, и потому хотел спокойно прожить свою жизнь при старой. Поэтому временами был верноподданным до тошноты. Поэтому и предлагал отдать судьбу освобожденных «на первое время» в руки прежних хозяев, а не в руки чиновников. «Конечно, первые не будут часто беспристрастны, но зато последние большей частью будут неблагонадежны». Он сам чувствовал, что это вздор, однако иначе не мог. И именно потому, что он видел ложь и грабежи, что творились вокруг, он выбрал себе в начале своей карьеры совсем иные средства для возвышения.
Он заметил, что умная критика — не выше допустимой нормы — вызывает расположение начальника, если он не дурак. Критика, если она только щекочет, заставляет начальника верить в добрые намерения подчиненного. Чепуха, что император любил жгучую критику и даже сам требовал ее! Ловушка для дураков!
Валуев с улыбкой вспомнил, как он подал записку «Дума русского во второй половине 1855 г.». Это была мина, до которой никто бы не додумался.
«Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления?»
Теперь надо было только не сорваться, не перегнуть в ответе. Он не очень боялся. Ответственность за недостатки нес покойный Николай. Царствование Александра оставалось еще чистой страницей, и молодому царю нужно было реноме свободолюбца и демократа. И потому Валуев ответил:
«Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм составляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то, по крайней мере, постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, и редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху — блеск, внизу — гниль… Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними».
Все же он боялся. На всякий случай нужно было найти влиятельного заступника и защитника. И он подвел вторую мину.
«Лишь морское министерство… не обнаруживает, подобно другим ведомствам… беспредельного равнодушия ко всему, что думает или знает Россия!!!»
Генерал-адмиралом был великий князь Константин Николаевич. И один бог знает, как потом он и великая княгиня Елена Павловна, к которой он сегодня пойдет, поддержали его. Доступ в салон великой княгини, удивление царя, поддержка великого князя вплоть до приказа по ведомству, чтоб начальство не лгало, как всегда, — все как будто было у него чудесно.
И напрасно. Потому что закончил он записку — Валуев улыбнулся — так: