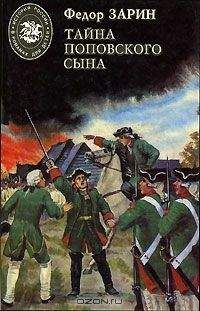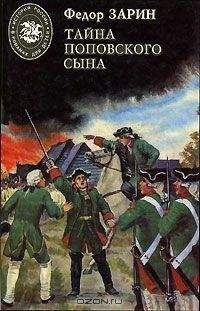Ваня провел молодого стольника в свою комнату, и там за доброй чаркой вина они разговорились. Ощера рассказал про свою любовь к Ксеше, про свои надежды, про своего крестового брата и свое отчаянье. Ваня сочувственно слушал его и по временам глубоко вздыхал.
Ощера решил все же в конце концов, если завтрашний день пройдет благополучно, отпроситься у князя вперед с небольшим отрядом, узнать дорогу, разведать, что творится, а главное он хотел быть поближе к невесте. За мать он не опасался. Он знал, что его крестовый брат никогда не решится причинить ей вред, что он даже и не взял бы ее с собой на Путивль, если бы был уверен, что, оставляя ее, не подвергает никакой опасности. Кроме того, князь Шаховской хорошо знал всю их семью. Но Ксеша другое дело. Быть может, Темрюков насильно обвенчается с ней. Все это Ощера высказал Ване.
На душе у Калузина тоже было неладно. Его сердце тоже было задето, но то чувство, которое он испытывал, было для него так мучительно и безнадежно и грозило такими печалями в будущем, что он даже боялся говорить о нем. Он сильно изменился в последние дни, побледнел, похудел. Неотразимое впечатление произвела на него дочь пана Хлопотни с того самого дня, как ее, бесчувственную, принесли в дом Скопина. Никогда в жизни, быть может, Ваня так не молился, как в те дни, когда она, казалось, умирала. Но теперь, когда он узнал, что она вне опасности, он стал еще больше страдать. Всего несколько раз украдкой удавалось ему видеть ее, и его неотступно преследовало ее бледное лицо с большими голубыми глазами.
Ваня уговорил Ощеру остаться ночевать, чтобы на рассвете вместе с Михаилом Васильевичем выехать навстречу мощам.
Едва рассвело, как в Москве началось усиленное движение. Словно живые потоки текли по улицам народные толпы. По временам с громкими криками, с бранью, щедро рассыпая направо и налево удары плетьми, подвигались к Кремлю конные отряды. Особенная давка была за каменным городом, куда, как говорили, выедет сам царь встречать честные мощи. Там же устанавливались конные отряды, раздвигая толпу и очищая в ней широкий проход.
От Кремля, от самой церкви Михаила Архангела неудержимо волновалось народное море, и в него буйными потоками вливались все новые и новые толпы народа, задыхаясь, крича и ругаясь. То там, то здесь раздавались порою неистовые вопли о помощи, но никто не обращал на них внимания. Тяжелый страшный гул стоял над Москвой. Было что-то грозное в этом неясном шуме необозримой толпы. Конные и пешие отряды, оцепившие Кремль, с великим трудом удерживали натиск толпы. На лицах солдат было выражение тревоги. На лицах людей, окружавших и напиравших на них, было выражение угрозы.
Где-то неожиданно раздался громкий крик одного из стрельцов, получившего в ответ на удар плетью страшный удар кистенем по голове. Он упал, обливаясь кровью, и на глазах его взбешенных товарищей толпа раздалась, и приняла вглубь нанесшего удар, и снова сомкнулась за ним неодолимой живой стеной. Испытывалось чувство как перед наступающей грозой. И как черная туча эта толпа несла в себе гром и разрушение. Попробовавший проехать по улицам молодой царский брат Иван среди сдержанных, но негодующих криков толпы поспешил вернуться во дворец. Молодой Шереметев приехал и доложил царю, что слышал угрожающие крики. Многие уговаривали его не ехать и прикинуться больным. Царь подозрительно взглянул на окружающих и, покачав головой, ничего не ответил.
Наступал жаркий день. На небе ни облачка, ни дуновения нет в неподвижном теплом воздухе.
Торжественно и тихо приближалась к Москве процессия. Впереди шли в белоснежных ризах святители Филарет ростовский и Феодосии астраханский, архимандриты, священники, певчие, за ними в гробу тело царевича. Гроб несли царский брат Димитрий, князь Воротынский, старик Шереметев, Андрей и Григорий Нагие. За гробом двигался конный отряд стрельцов, а дальше необозримые толпы народа.
Грохнули пушки, загудели московские колокола, и за каменным городом царь с инокиней Марфой, матерью царевича, и в сопровождении самого патриарха и крестного хода встретили мощи.
При виде царя в толпе поднялся глухой ропот. Но за царем на белой лошади с небольшим отрядом следовал князь Скопин. Ропот умолк, и вдали показалась процессия. Головы мгновенно обнажились, многие опустились на колени. Кое-где раздались сдержанные рыдания. Царица Марфа, смертельно бледная, едва держалась на ногах. К ней подошли Михаил Нагой и Мстиславский и взяли ее под руки.
Царь и за ним все окружающие опустились на колени.
Торжественность обстановки подействовала на народ. Воцарилось глубокое молчание.
Процессия остановилась. Царь перекрестился, встал, подошел к гробу и поменялся с братом своим Димитрием. Процессия снова тронулась вперед. Но как будто с того мгновения, как царь принял на свои плечи прах погибшего младенца, не отомщенного им, поруганного им, чье имя дало ему и трон и почести и чей призрак снова изгонял его с трона, с этого мгновенья как бы исчезло недолгое очарование толпы.
— Христопродавец! — раздался чей-то пронзительный исступленный голос.
Царь побледнел.
— Богоотступник, Иуда, клятвопреступник! — раздались снова исступленные голоса.
Казалось, ни сила, ни присутствие духовенства, ни вид гроба не могли сдержать возмущенной народной совести при виде человека, всю жизнь игравшего прахом и именем того, кого он выставлял теперь народу как святыню.
Большой камень со свистом прорезал воздух и упал в нескольких шагах от царя. Лицо царя оставалось спокойно, хотя и бледно.
Быть может, в эти минуты он сознавал, как опасно и необдуманно играет народным легковерием и его святыней.
Скопин остановил свой отряд и образовал живую стену. Когда процессия скрылась в кремлевских воротах, он медленно и задумчиво повернул лошадь и шагом поехал к Кремлю. Смутно было у него на душе. Мелким и ничтожным казался ему царь Василий. Темен и извилист его путь. Кровавый призрак не сходит с его пути. Черная туча плывет на него и разразится над ним и над Русью. Боже, помоги!
Перед собором Михаила Архангела вся площадь была занята народом. У ступеней паперти в нарядном голубом камзоле, со своей сотней стоял капитан Маржерет, француз, бывший начальник телохранителей царя Димитрия, оставленный временно царем Василием при себе.
Его еще молодое лицо, украшенное длинными черными усами, выражало веселую отвагу и беспечность и, казалось, говорило: «Жизнь мне ничего не стоит, не два раза умирают люди. Я живу, наслаждаюсь, получаю хорошие деньги, а там, черт меня возьми! Мне решительно все равно: умереть за мою родину или за чужую, только бы платили!»
Скопин небрежным кивком головы ответил на изысканный поклон француза и, спешившись, в сопровождении Калузина и Ощеры стал на паперти собора, не входя во храм. Он хорошо знал Маржерета как смелого воина и близкого к царю Димитрию человека, но ему казалось подозрительным, что тот неожиданно захворал в ночь заговора и как быстро поправился от своей болезни, когда был избран царь Василий.
Стоя на паперти, Скопин окинул площадь. Вся она, как и прилегающие к ней улицы, была переполнена народом. Колокола гудели не умолкая, но на площади воцарилась мертвая тишина.
Скопин глядел на эту неподвижную, явно враждебную толпу и думал, что достаточно одного умелого слова и вся эта толпа обратится в дикого зверя, и не удержат ее ни стрельцы, ни этот веселый и беспечный француз.
Отряд Скопина расположился слева от иноземцев. В храме в эти минуты происходил молебен и чин прославления честных мощей. Обряд кончился.
Неожиданно громко грянули в тон большим малые колокола. В толпе крестились. Царь вышел на паперть, народ молча встретил его. Царь, видимо, не ожидал такого приема и с растерянным видом остановился.
Сзади него, поддерживаемая под руки, стояла полубесчувственная царица Марфа. Глаза ее были полузакрыты. На бледном лице, хранившем еще черты необыкновенной красоты, лежала печать тупого отчаянья. За ней — белые ризы духовенства. В глубине виднелись лица ближайших бояр и царевых братьев. Ближе всех к царице стоял думный дьяк Михаил Игнатьевич Татищев. Он озирался как затравленный зверь и судорожно мял в руках свой свиток. Лицо его было бледно, и нервная, неловкая улыбка кривила его губы.
Царь имел вид чуть не дряхлого старца. Спина его сгорбилась, глаза, маленькие, красноватые, смотрели робко и неуверенно. Но вид Маржерета с его сотней и князя Скопина с отрядом, казалось, придал ему бодрости.
— Православные! — начал он, стараясь придать силу своему старческому, слабому голосу. Но густой звон колоколов перекрыл его голос. Опираясь на свой жезл, царь беспомощно оглянулся. Ближние бояре поняли царя, и через несколько мгновений колокольный звон смолк. Скоро перестали грохотать и пушки и воцарилась ничем не нарушаемая тишина.