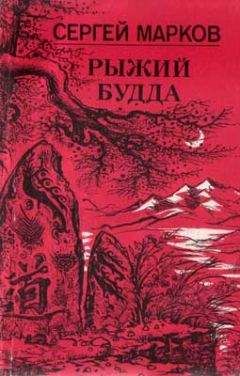Я вскакиваю, гляжу, стоит надо мной офицер, из стрелкового полка штабс-капитан, при крестах и медалях. Простите, говорю, ваше благородие, я, может, вам сапожки запачкал?
А он на меня смотрит и говорит: «Однако старый ты стал, Моргун-Поплевкин, вся личность в морщинах, и за ушами седина». Господи боже мой, откуда он меня знает? – думаю… Погоди, не мешай, барин, доскажу. Отвечаю, ваше, мол, благородие, господин стрелковый капитан, нашего знакомства с вами не может быть, вы в участках сидеть не могли и знать меня не можете. Нет, говорит, знаю, и ты, Моргун, по голосу и то должен меня признать, хоть давно мы с тобой встречались… Пашу-Фельдфебеля помнишь, поди?
Коля: Вот здорово… я так и думал…
Моргун-Поплевкин: Не так здорово, как крепко. Я, конечно, обрадовался, но вместе с тем и огорчился. Был Паша-Фельдфебель, а теперь полный офицер. Задал он мне задачу, как, думаю, с ним мне, подзаборному жителю, говорить? А он меня по-простецки отводит на бережок, садится на камень. Я, конечно, меньше робеть стал и его спрашиваю: как вы, мол, Павел Никифорович, такой жизни достигли? И выходит все дело так, что наш плотницкий голова вздумал идти в сверхсрочные служить, и послали его господа офицеры в школу подпрапорщиков. Через два года – бац, объявили мы Вильгельму войну, и пошел Павел Никифорыч за веру, царя и отечество. Счастливый, видно, был он от роду, и привалили ему ужасные кресты и медали. У него, ты слышь, не токмо што два Георгия было, а даже от французского министра медаль. Потом его в прапорщики производят, поздравляют простого плотника генералы перед всем фронтом. А уж когда он штабс-капитана получил, то сам Гурко у него спрашивал, какую водку больше плотницкий голова обожает? Все это он мне рассказал и огорчился всем. Говорит, это дело не мое – приобвык я больше сибирские пятистенки ладить, а тут своим братом командовать пришлось. Было у них дело такое в окопах, что Павел Никифорыч раз затрепетал. Увидел он, как блиндаж строят, и попросил у саперов топорик, а господа офицеры стали насмешки делать над ним, а наш штабс-капитан огорчился и объяснил им, что он сам не из дворян и у него при виде своего дела душа заиграла. Офицеры вид на себя напустили такой, что будто ничего не заметили и все за-были. Вскоре после того стал он главным над учебной командой, и послали его в Сибирь, а перед тем велели отдых в лазарете сделать, и так он проездом в Вологду попал, где мне и повстречался, когда по делам шел. Так вот, барин, какие дела в жизни происходят…
Коля: Моргун, скажи, пожалуйста, как тебя звать?
Моргун-Поплевкин: Ишь, чего захотел! А тебе на что?
Коля: Ну, зачем ты обижаешься, Моргун? Правда, как твое имя?.
Моргун-Поплевкин: Вашему брату скажешь что, так вы и сотворите такое, что сам становой не разберет. Ну, – тебе не все равно, – Аким.
Коля: А по отчеству?
Моргун-Поплевкин: Федоров… А фамильи, как хошь, не скажу. С тебя и этого хватит.
Коля: Так вот, Аким Федорович, ты пить брось совсем. Это ведь можно сделать. У нас в гимназии сторож унтер бывший, Алешкин, всю жизнь пил, а теперь бросил…
Моргун-Поплевкин: То унтер; они народ гладкий, они жили подходяще, и пил он больше с дикого жиру… Смотри, опять караси повылезали наверх. Их еще хорошо на донную приманку брать. Я вот завтра в Корнильев монастырь пойду и там их ловить буду… Там горячие воды есть, господа в них брюхо полощут. Подают очень много иногда.
Коля: Аким Федорович, помнишь, ты мне белку подарил? Я совсем маленький был: Я тогда через пустырь шел… А теперь мне восемнадцать лет.
Моргун-Поплевкин: А это чья барышня чернявая была? Больно приглядная, мне у вас на кухне сказывали, что она из татар… Татары очень чисто живут.
Коля: О, Аким Федорович, она не татарка, она с Кавказа, там и живет. Уехала и с тех пор не была. Смотри, какое красивое дерево на том берегу! Помнишь, когда ты встретился с нами и подарил мне белку, мы с тетей Тамарой пошли дальше и нас здесь, у пруда, застал дождь… Мы спрятались под березу, но тетя Тамара промочила все-таки туфли… Какая красивая береза! Нет, ты этого не поймешь!
Моргун-Поплевкин: Где уж там понять! Чудной ты, барин, хоть и молодой… Береза на строенье не годится, мы с Пашей-Фельдфебелем все больше лиственницу обожали. Построишь избу, а она вся красная, приглядная, и дух от стен легкий.
Коля: У нее платье вымокло на плечах. Шелк после дождя пахнет совсем особенно.
Моргун-Поплевкин: Дай гривенник, барин… Если есть, так скорей давай. Смотри, Американцев сюда идет. Вот спасибо тебе. Я побегу, а то привяжется еще, крючок. Ты завтра, если хочешь, приходи в Корнильев монастырь, будем карасей ловить…
Моргун-Поплевкин быстро ушел, опустив длинные руки, а Коля в раздумье бросил камень на самую середину пруда.
Над городом висело жаркое лето. Пожарный козел лениво слизывал клейстер со свежей афиши, пленные австрийцы мостили улицу, камни казались медными – их нагрел полдень.
Бока каланчи блестели на солнце, краска свертывалась, как пенка, и, проходя мимо, Коля вспомнил, что, когда он был совсем маленьким, бегал сюда и тайком ел эти красные пенки.
Вслед за этим Коля испытывал совершенно странное чувство, которое после с трудом мог восстановить.
Коле казалось, что у каланчи перед ним вдруг пролетела вся его короткая жизнь. Картины раннего детства быстро прошумели мимо него, как громадный радужный мяч. Коля засмеялся, угадав, откуда пришло это сравнение, и вспомнил, что такой мяч когда-то очень давно был подарен ему отцом. Коля катал мяч по лужайке, зеленой, как сукно письменного стола, но после проколол мяч ржавым гвоздем, и громадный разноцветный шар вздохнул, как великан.
– Вслед за этим Коля видит раскаленную гроздь рябины, куски неба, качающиеся в просветах дерева, и слышит грозный окрик дьякона – владельца рябины. Дьякон бережет рябину для настойки и ждет первого осеннего мороза для сбора ягод. Коля не слышит голоса дьякона и лезет по дереву, стараясь достать самую крупную кисть. Дьякон стоит на крыльце и зовет на помощь идущего мимо Огонька, торговца мессинскими лимонами. О, Огонек никогда не тронет Колю, он только напустит на себя суровый вид!
Розовый дым зимних дней, запах бетона в гимназической раздевальне, усы серба Джурича, преподававшего математику, закрученные, как шестерки, рой предметов, звуков и имен окружают сейчас, подобно облаку, Колю. И, наконец, как летний дождь, теплый и радостный, откуда-то с высоты сознания, падает мысль о царице Тамаре. И Коля сразу понимает, что отрочество прошло и он становится взрослым.
– Ассоциация идей, – медленно бормочет он, прислушиваясь к словам. Они непривычны, и Коля произносит слова медленно, выпуская их, как птиц из клетки. Это, несомненно, относится к воспоминанию о дожде, падавшем на ветки березы у пруда, и сравнению с дождем мыслей о царице Тамаре.
– Дарвин, – шепчет вслед за этим Коля и улыбается, вспоминая, как отец, узнав о том, что сын читал тайком толстую книгу о происхождении человека, назвал, шутя, Колю мартышкой.
Коля почему-то долго не встречался с Моргуном-Поплевкиным с тех пор, как они виделись у пруда.
Время шло, и, наконец, случилось необъяснимое сначала событие, перевернувшее вверх дном благополучную жизнь городка. Это событие называлось Февральской революцией.
За день до всего этого в городской лавке утром продавали темный лакричный сахар, а к вечеру из городской больницы вырвался голый сумасшедший, как бы предчувствовавший гибель Империи.
Сумасшедший повязал бедра трехцветным флагом, украденным из больничной сторожки, и прыгал около каланчи, собирая горожан вокруг себя. Флаг сберегался для царского дня, и этому факту придал особенное значение протоиерей, истолковавший такой поразительный случай, как зловещее предзнаменование. Протоиерей тайно жил с начальницей женской гимназии двадцать лет, но на второй день революции не вытерпел и решил высказать свой протест против мнений старого общества, явившись на митинг под руку со своей подругой и с прицепленным к рясе, похожим на красный кочан, бантом.
Коля вместе со всеми бегал, кричал и пел «Марсельезу», забывая временами слова. Песня была нова и походила чем-то на непривычные «ассоциация идей» и «Дарвин».
В городе шумели, стреляли и пели. Двадцать гимназистов на второй день революции догадались разоружить городового Американцева, городовой плакал, ему кричали: «Приветствуй революцию, фараон!» Из-за его красного револьверного шнура дрались приготовишки, один из восьмиклассников мудро примирил гимназическую мелкоту, разрезав шнур на кусочки тесаком того же Американцева и раздав эти кусочки на память о великой Революции, которую приветствовал городовой, беря под козы-. рек.
На третий день отец Коли Куликова достал форменное платье и велел няньке обшить пуговицы сукном. Золотые орлы канули в небытие, но все же сквозь сукно можно было прощупать очертания шершавых крыльев.