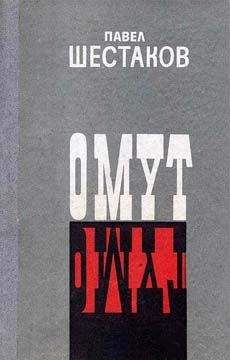Ульяна была на хуторе незаменимым человеком, — всеобщим помощником — и лечила, и роды принимала, и советом подбадривала, никому ни в чем не отказывала. Потому именно она в смутное, опасное время вызвалась съездить за Татьяной, которая приходилась ей внучатой племянницей, за сотню верст, по беспокойной степи.
— Он меня спрашивает, девка, дед твой, брат мой единокровный: «А ты, Ульяна, не боишься?» А я ему: «Еще чего!» — «Так ведь много лихого народа по степи хоронится». — «А мне что? Меня не тронут. Зачем им старая? А кони видишь какие? Зубов у них меньше, чем у меня. Лихим людям конь нужен справный. И за Таньку не бойся. Со мной доедет благополучно».
Так она говорила Тане, когда, покинув маленькую станцию с разбитой снарядом водонапорной башней, двинулись они необозримым равнинным пространством, которому, казалось, и конца быть не может.
— Вы всё лечите, бабушка?
— А то как… И лекарства знаю — травы, и другое все знаю, и слово знаю.
— Слово?
— Ну а как же! Без слова снадобье не поможет.
— Что ж это за слово? Секретное, тайное?
— Почему тайное? Хочешь, тебе скажу.
Бабка улыбнулась, обнажив голые десны — у лошадей зубов все-таки побольше было, — и сказала, водя в такт сухоньким пальцем, с сильным украинским выговором:
Ишла кишка через мист,
Чотыре ноги, пятый хвист,
Шоста голова.
Хай тоби бог помога!
Бог помог — не помог.
А бабке — пирог!
Таня грустно посмеялась.
— Шутите, бабушка?
— Почему? Я эту прибаутку всегда говорю, особливо детям. Они, глядишь, и улыбнутся. А раз улыбнутся, лечение бойчее идет.
— Много лечить приходится?
— Сейчас поменьше. Людей-то поубавилось.
— Неужели так поубавилось?
— А то нет! Приедешь на хутор — сама увидишь.
И она стала называть знакомые на слух, но почти ушедшие из Таниной памяти имена.
— Да что я тебе святцы читаю! Их разве всех упомнишь! В хуторе у нас, считай, сто дворов. В каждом по два-три мужика здоровых было. Выходит, почти триста, а сейчас и сотни не наберешь.
— Неужели столько народу погибло?
— А ты думала! Кто в германскую еще, кто у красных, кто у белых, кто от тифа, кто без вести пропавший.
— Как это страшно, бабушка.
— Уж как есть. Да у нас ничего еще, а у соседей-казачков поболе полегло. Они ж злее нас. Вот они, сердечные, по всей земле лежат…
И старуха указала кнутом на придорожный могильный холмик с грубо обструганным крестом.
— Видишь, добрые люди чужака схоронили.
Таких неказистых могилок у обочины и поодаль попадалось по пути немало. Таня с волнением оглядывала окружившую их пустынную степь.
Справа и слева тянулись желтовато-бурые поля, недавно освободившиеся от снега, только кое-где по балкам он еще виднелся серыми осевшими пятнами. Над черными маслянистыми кусками пашни поднимался молочный пар. Редкие озимые переливались влажной зеленью. Воздух был свежий, но уже согретый вольно, без туч, расположившимся на голубом небе солнцем.
Лошади медленно перевалили пригорок и пошли резвее. В низине, поросшей красноталом и коренастыми вербами, широко и спокойно шла полая вода, перекатываясь по доскам моста над скрывшей свое русло речкой.
Спуск стал круче. Подвода напирала на лошадей, торопила их.
Бабка натянула вожжи:
— Не неси, не неси!
По склонам вдоль дороги карабкались черные терновые кусты с темно-синими смерзшимися за зиму ягодами и более светлый, в блекло-красных плодах, шиповник.
— Видала, добра сколько пропадает! Какая наливка с терна! А шипшина от всех болезней помога. Ничего народ не собрал…
К мосту подъезжали вброд, вода поднималась к осям, и Таня невольно поджала ноги.
— Не бойся! Я это место знаю. Тут ямка, но не глыбокая.
Проехали в самом деле благополучно, хотя и был момент, когда поток перекрыл оси.
— Ой, голова кружится.
— Да не зажмуряйся ты! Смотри лучше кругом. Мир божий во всей красе. А мы не видим его, не ценим. Гневим создателя. Не по сути живем. Вот он и наказывает за грехи наши, за самодовольство. По делам нашим.
«Ну какие же я совершила дела?! За что меня так? За что?» — подумала с болью Таня.
— Бабушка, — сказала она, когда колеса перестали переваливаться через разбухшие доски и вода уступила тверди, — в чем же она, суть?
— Простая она, хоть для многих за семью печатями. Главное, вреда не твори. Многого не хоти. Труда не брезгуй. Кому сможешь — помоги. Вот и на душе спокойно будет, вот и проживешь, сколько господь положит, и примет он душу твою с миром. Смерти-то не боись! Нету ее…
Но она была, и неподалеку совсем.
Выстрел хлестнул в тишине, как хлопок кнута, и они разом обернулись на этот резкий, разрушающий покой звук. Наперерез, выбивая подковами комья грязи, скакали двое.
— Вот и извергов каких-то нечистый несет, — сказала Ульяна. — Тпр-р-у! От них разве уйдешь!
У Тани сердце дрогнуло, руки невольно, прижались к животу, словно в попытке защитить не родившегося еще малютку.
Верховые приблизились, осаживая сытых, беспокойных коней.
— Стой, мать вашу… Кто такие? Что за люди?
— А сами-то кто будете? — спросила бабка, разглядывая конных, затянутых в кожу, со многим оружием на ремнях, но без всяких знаков различия.
— Это не твоего ума дело. Сами кто?
— Старуха я. Горбатая. Не видишь?
— Сейчас и горбатые с пулеметов палить научились, — зло сказал ближний, чей потный конь терся крупом о борт брички. — Оружие есть?
— Какое оружие? Откудова оно, когда ты все его по пузу развешал.
— Ну, старая…
И конный, вытащив шашку, стал тыкать острием в солому, постеленную на дно подводы.
— А девка кто?
— Не девка она, а внучка моя. На сносях. Не видишь?
— На сносях! Нашла когда рожать, дура.
И он потянулся шашкой к Тане, стараясь распахнуть, приподнять полу шубы.
Таня охнула.
И тут Ульяна взъярилась:
— А ну убери железку, анчихрист! Спрячь ее, я тебе говорю! Сказано, на сносях девка. Рожать будет. Природное это дело, чтоб жизня не прерывалась. Вот тебя убьют, кто жить будет? Кто землю пахать будет?
Верховой растерялся под таким натиском, отвел шашку.
— Ты это брось, бабка! Кто тебе сказал, что меня убьют? Я еще, может, поживу. А тебе давно о душе думать надо.
— Я об своей подумала. А твоя, сразу видать, погибшая. Людей казнил, убивал?
— Война, бабка, — ответил тот, опуская шашку в ножны. — Они нас, а мы их.
— Вот то-то. Раз вы их, значит, и сам готовься.
— Типун тебе на язык, ведьма!
Он сплюнул в грязь.
— Брось их, Пантелей, к такой матери, — вмешался второй. — Пусть едут рожают. В самом деле, должон же и после нас жить кто-нибудь.
— Ну, помните нашу доброту. А самогонки вы, часом, не везете?
— Мы, мил человек, непьющие. Салом поделиться могу.
— Сала нам хватает.
— Прощевайте! — сказал тот, что поспокойнее, и первым отвернул коня.
Рванув с места, они понеслись наметом и вдруг исчезли за холмом, словно их и не было.
Ульяна перекрестилась:
— Слава тебе господи, унесло извергов.
Таня, часто дыша, водила ладонью по животу.
— Я очень испугалась, бабушка. А вы с ними так смело… Могли ведь и убить.
— До срока, внучка, никто не помрет. Бог не выдаст, свинья не съест. А страх им показывать негоже. Они того и ждут, чтоб покуражиться… Ироды царя небесного. Самогонки им захотелось… А такого вы не хлебали? — Она сделала выразительный жест и взмахнула кнутом: — А ну пошли, милые!
Ехали еще долго…
Лишь в конце третьего дня пути возник впереди и сверкнул на солнце выхваченный из синевы закатным лучом крест той самой колокольни, под которой и церковь стояла, и школа, где Татьянина мать встретила впервые будущего своего мужа, Но Таня безрадостно смотрела на открывшийся взгляду хутор, в котором не была двенадцать лет. Все эти годы она не только не вспоминала, но и не хотела вспоминать свое деревенское детство, убирала из памяти как ненужное, навсегда ушедшее, к чему возврата нет и быть не может, но вот жизнь распорядилась по-своему, заставила, и пришлось возвращаться, проделав замкнувшийся круг. На душе у Тани было горько и пусто…
Зато Ульяна радовалась благополучно завершенному пути.
— Вот мы и дома, Татьяна! Теперь не горюй. Дома и стены помогают. Теперь не пропадешь! — говорила бабка бодро и весело.
А Таня думала: «Да ведь уже пропала».
Речка разлилась раздольно, левады стояли сплошь затопленные, отражаясь в воде переплетением веток. Кое-где вода подошла к самым домам, и ватага ребятишек, охваченная озорной радостью, плыла по ней в снятом с брички кузове, заменившем им лодку. Но «лодка», конечно, забирала воду, да и мальчишки раскачивали кузов с самонадеянным бесстрашием, и вот он пошел ко дну — благо, там было неглубоко, — и мокрая детвора побежала со смехом, разбрызгивая воду, на взгорок, чтобы разуться и обсушиться на солнце.