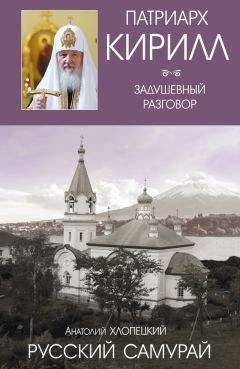Тем летним жарким днем мы с друзьями, как обычно, обошли все заветные ягодные полянки и уже, скинув обувь, мечтали только о том, чтобы посидеть где-нибудь в тенечке, когда на лесной дороге из-за поворота нам навстречу вышел незнакомый старик. Сейчас я назвал бы его странником – по одежде, по холщовой суме, перекинутой через плечо, по тому, как привычно он опирался на высокий посох…
По сельскому обычаю мы поздоровались со встречным, он остановился и завязал с нами негромкий, ласковый разговор. И когда мы незаметно для себя рассказали этому доброму дедушке о том, кто мы такие и откуда, он вдруг спросил нас, есть ли дома у нас иконы, знаем ли мы какие-нибудь молитвы и кто нас научил им. Он с ласковой улыбкой слушал, как мы наперебой отвечали ему, а потом перекрестил нашу босоногую стайку, говоря: «Скажите родителям, пусть молятся, и сами молитесь – детская молитва угодна Господу!» И так же неторопливо исчез в чаще.
Не помню, что сказали мне дома, когда я рассказал об этой встрече, но мне запомнились слова о том, что молитва моя «угодна Господу», и с тех пор я уже иначе относился к словам, которые произношу на сон грядущий, осеняя себя крестным знамением…
А потом умерла бабушка, и вечно занятые работой родители, как и большинство наших сельчан, постепенно стали уже не так истово и повседневно уделять время молитвам, отмечая только большие праздники – Рождество, Пасху… Уехал и я учиться в город – там повседневная жизнь и вовсе не включала в себя религиозные обряды. Так что, когда меня принимали в комсомол, я больше всего боялся, чтобы меня не спросили, верю ли я в Бога. Сказать «нет» – погрешить перед Господом, сказать «верю» – не примут в комсомол. Да к тому же я в ту пору уже и сам не знал, могу ли считать себя по-настоящему верующим человеком. Это осознание пришло ко мне значительно позже.
5. Долгий путь к себе
(По рассказу митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла)
Долгой и трудной была дорога иеромонаха Николая в неведомую Японию: это был путь, как говорится, на перекладных. Думалось ему, что, верно, на прощание показывает ему Господь всю Русь, прежде неведомую ему, кроме Питера да любимых уголков малой родины.
Сначала похожа она была на родную Смоленщину – те же высокие боры да березовые рощи на высоких речных берегах и вдоль пыльных трактов, почтовые станции, редкие ночные огоньки в спящих деревнях.
Первым открытием, поразившим воображение, была Волга – поистине мать русских рек, красавица и труженица. В разгар лета несла она по своим могучим водам плоты и баржи – беляны вниз по течению. А вверх тяжело груженные расшивы тащили бечевой бурлацкие артели. Запомнилось, как однажды, припозднившись в пути, прибились к артельному костру В большом закопченном котле вкусно булькала сборная уха, для сытости заправленная крупой. Староста артели– крупный, могучий рыжий мужик – обтер подолом рубахи новую деревянную ложку.
– Поснедайте, чем Бог послал. Куда путь, отец, держишь?
– До Камы, а там водой до Перми, – ответил он.
– А там чо? В скит, что ли?
Не хотелось отвечать на праздные вопросы, и он только молча кивнул в ответ.
– Бона! – захохотал рыжий. – Такой молодой да ражий! Хошь, возьму лучше к себе в артель – нам такие дюжие ко двору.
– Не вяжись к монашку, – оборвал рыжего старик, гревший косточки у самого огня. – Видишь, сомлел он с дороги. И не сбивай его. Ему своя лямка назначена.
Утром бурлаки ушли с расшивой на самом рассвете, оставив на песке только рыбные косточки да остывшее кострище. А отец Николай плеснул себе в лицо прохладной волжской водицей и, перекрестясь, подумал: «Да, мне свое назначено. И еще неведомо, чья бечева тяжелей».
Волга, убегая вправо, широко разлилась, а слева надвинулись глубокие воды Камы. Долго бежит Кама рядом с Волгой: ее темные воды видны отдельной струей.
Дорога листала перед отцом Николаем свой атлас: Пермь, Екатеринбург… Урал был новым сильным впечатлением для выросшего на равнине юноши. Древние, причудливо выветренные уральские «столбы» поражали воображение.
А потом была Тюмень, болота Васюганья, гнус и слепни. И полторы тысячи верст лошадьми до Томска.
Тогда в Зауралье впервые стали встречаться ему священники, ведущие миссионерскую деятельность среди здешних малых народов. С одним из них, отцом Александром, довелось ему заночевать на почтовой станции.
Гудел самовар, заботливо вздутый для проезжих дородной вдовой – хозяйкой постоялого двора. За окном покрикивал на лошадей ямщик, распрягая тройку. В сумерках шуршали по углам тараканы. Отец Александр вытирал полотенцем распаренное чаем лицо, рассказывал, что получил поручение в радиусе тысячи полторы или больше (версты тут никем не меренные) разведать, живет ли в округе кто-нибудь, а если живет, то какую веру исповедует, и исполнить свои иерейские обязанности. Так впервые встретился отец Николай с сибирскими расстояниями, где и триста верст – не околица.
– А как же зимой? – невольно вырвалось у него.
– А как Господь пошлет – где на лошадках, где на собаках. Олени вот тоже бывают, где посевернее. А то и пешком…
Он заметил про себя, что отец Александр не называет свою паству язычниками, не презирает их обычаи и обряды, а присматривается и старается уяснить, почему так, а не иначе, складывается быт эвенков, якутов, гиляков. «Наше предназначение – не нести наказание за язычество, а приобщать малые сии народы к вере Христовой», – толковал священник.
Были и еще подобные встречи, и каждая из них становилась новым уроком на будущее служение, новым поводом для раздумий. Путь в неведомую Японию становился и путем к себе – тому, кем ему предстояло вскоре стать.
Коротко сибирское лето, но добираясь все на тех же перекладных через Ачинск, Красноярск к Иркутску, к Байкалу, успел отец Николай изведать и жару, и пыль, и дым лесных пожаров.
По ночам в горах пылал горящий лес. Днем тучи едкого сизого дыма закрывали солнце. Дули крепкие сухие ветры, раздували пожары. Вихрь вздувал пламя, кружил и бросал высоко к багровому небу горящие лапы елей. Спасаясь от огня, на дорогу выбегало лесное зверье.
Отец Николай молился о милости Господней, о дожде. И когда наконец остались позади лесные гари и воздух стал чище, как благословение Божие принял встретившееся на пути лесное озеро – оно-то и преградило путь огню.
Только перебравшись через Байкал и доехав на лошадях до Сретенска, распрощался он наконец с трудностями сухопутного пути – по Шилке и Амуру только поздней осенью добрался до Николаевска.
Не был гладким и этот водный путь. То вдруг мели да перекаты и плыть нельзя, то сильно несет течением. Шли «на дровяном ходу», а по берегам – то дров в изобилии, то один хворост, не годный и на лучину. Не раз вставал пароход, и команда уходила в глубь берега в поисках топлива. Не чурался общего аврала и отец Николай – махать топором ему, деревенскому родом, было не привыкать.
Взятые в Сретенске припасы кончились на середине пути, приходилось и команде, и пассажирам ловить рыбу или выменивать у местных жителей, если таковые попадались по берегам, бисер и гвозди на сушеное оленье мясо, просо и дичь. Однако с Божьей помощью через два месяца доплыли до океана.
К тому времени уже два года как Николаевск был не только последним русским портом на пути странствующих к чужим берегам, но и епархиальным центром для Камчатки, Курильских и Алеутских островов. Архиепископом здесь был преосвященный Иннокентий, впоследствии митрополит Московский и Коломенский. Встреча с этим человеком была для молодого священника настоящей миссионерской школой, тем «курсом наук» и практических советов, которые не могла дать академия.
Еще в училище зачитывался будущий отец Николай житием Стефана Пермского, первого просветителя зырян. Теперь перед ним был человек, дела которого были сравнимы с подвигами легендарного просветителя.
В небольшой скромной келье преосвященного допоздна длились их негромкие беседы. Архиепископ Иннокентий, поглядывая на своего молодого собеседника, вспоминал и свою молодость: как доводилось, живя на острове Уналашка Алеутского архипелага, в орочке – одноместном челноке из тюленьей кожи – плавать по океану с острова на остров, чтобы изучить местные алеутские наречия. Записывая свои исследования и наблюдения, он составил алеутский букварь и словарь, а затем и учебник грамматики.
– Так подошел я к переводу на алеутское наречие Евангелия от Матфея и православного Катехизиса, – рассказывал преосвященный Иннокентий, скромно умалчивая, что его собственная книга на алеутском языке «Указание пути в Царствие Небесное» стала уже широко известна далеко за пределами архипелага, переведена на славянский и русский языки и не раз переиздана Синодальным издательством.
Рассказал преосвященный о том, с какими необычными трудностями пришлось столкнуться при переводе Евангелия. В местном наречии не было, например, обобщающего слова «плод». И не диво – в тамошнем климате даже дикого яблока не родится – есть рябина, брусника, дикая смородина, морошка, но это ягоды. Пришлось пользоваться русским словом: так же, как по-русски, называют местные жители и хлеб – он пришел в эти края вместе с русскими людьми. Да и для письменной грамоты алеутов, за неимением в тех наречиях никакой письменности, тоже пришлось пользоваться русским алфавитом.