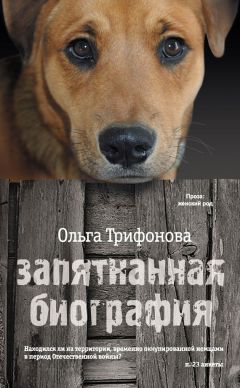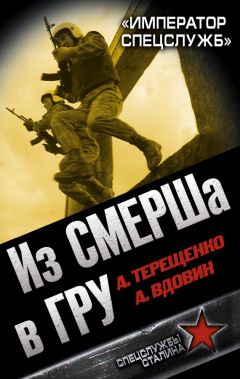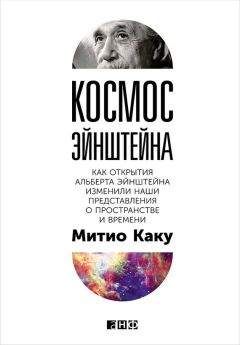Говорили о каком-то Вейцзекере, и Железная нога вспомнил, как с этим самым Вейцзекером жил в частном пансионе у фрекен Талбитцер, фрекен курила трубку, а молодые физики развлекались тем, что предлагали друг другу доказать парадоксальные утверждения. Например: «Злобное удовольствие есть чистейшее из удовольствий». Генрих радостно хохотал, а Железная нога и Лео все время цитировали какого-то знаменитого венгерского поэта и все время выражали надежду, что эмиссии нейтронов либо не будет вовсе, либо она будет ничтожной. Говорили по-немецки, по-немецки обсуждали и письмо президенту, и, когда наконец закончили со всеми поправками, Генрих сказал: «Пожалуйста, я могу выполнить роль почтового ящика».
— Я тоже должна выполнить роль почтового ящика, — сказала она и протянула Лео конверт. — Это письмо от вашего брата и от Руди Майера.
Лео смотрел на нее с изумлением, и загар линял на его лице.
— Мы были в гостях в Лондоне у Майеров, там встретили родственницу его жены, и она просила передать вам это письмо.
— Я могу уйти в ваш кабинет? — спросил он Генриха сдавленным голосом.
— Да-да..
— Я провожу, — она задержала Генриха, положив ему руку на плечо.
Когда вернулась на террасу, они говорили о Руди. О том, что он занимается изотопами урана.
— Вот видите! — почему-то торжествующе сказал Железная нога. — Он тоже!
Лео вернулся не скоро, он словно постарел, так тяжела была его походка. Но ни Генрих, ни Железная нога не спросили, что пишет брат, они спросили:
— Ну, что Руди?
— Он занимается ураном?
Знакомый эгоизм. Когда дело касалось физики, эти люди просто утрачивали обычный человеческий интерес друг к другу. Да и ко всем остальным!
— Он, кажется, определил критическую массу.
Пауза, которая наступила после этого сообщения, была, пожалуй, подлиннее той, что была, когда Эстер сказала, что по радио сообщили о взрыве этой самой критической массы над Хиросимой. Тогда Генрих, помолчав, произнес со вздохом: «О Боже! Увы!», ночью ей — с невыразимой грустью: «Если бы я знал, чем это кончится, я бы не подписывал того письма Рузвельту, но меня можно простить: все мы боялись, что немцы вот-вот сделают атомную бомбу». Теперь же они молча смотрели на Лео.
— С ним работает Отто Дукс.
— Я его помню по Лейпцигу. Такой постный худой очкарик? — Железная нога, как всегда, предпочитал негативные характеристики.
— Да. Постный худой очкарик. Отличный математик. Я с ним встречался в Бирмингемском университете. Он тоже эмигрировал из Германии. Но сначала во Францию, — голос Лео звучал ровно и безжизненно.
Генрих и Железная нога оправились от шока и снова затараторили о физике. Лео сидел молча.
— Что пишет ваш брат? — тихо спросила она. — Как ему живется?
— С ним все в порядке. Он хорошо живет, работает по специальности. — Лео был чем-то потрясен и находился где-то далеко.
— Все в порядке?! — чуть не переспросила она. Ведь Лулу сказала другое. Лулу, отвечая на вопрос Руди, как-то сжалась, втянула голову в плечи и пробормотала:
— Он работает по специальности, и он сыт, но встретиться с ним невозможно.
— Как это?
— Ну не знаю, не знаю, только видеть его нельзя.
Бедная Лулу! Во что она превратилась! Вместо стройной девушки с бледными губами и темно-синими, почти фиолетовыми глазами они увидели высохшую мосластую тетку далеко за сорок, с темными набрякшими подглазьями, измученную и ужасно одетую. На ней была мешковатая бурая юбка и вязаная вигоневая кофта с обвисшими полами и пузырями на локтях. Правда, Лизанька потом приодела ее, Лулу отъелась, и круги под глазами побледнели, но печать затравленности и голодухи все же не исчезла. А главное, не исчезла неизбывная боязнь сказать лишнее слово. Сначала с ней вообще было невозможно разговаривать. На все вопросы — односложное: «Слава Богу, все в порядке!» Но постепенно выяснилось, что все совсем не в порядке. Жила Лулу с Рогнедой, отец помер в тридцатом пятом, старший брат сгинул. Иоахима Кивезеттера тягали сначала из-за Леки, потом из-за старшего сына, воевавшего вроде бы в Добрармии. Спасло личное знакомство с Красиным и Лопатиным, те заступились, и главным доводом в пользу благонадежности Иоахима стал знаменитый революционный броненосец, построенный им.
Жили на прежней квартире, правда, «с уплотнением», Рогнеда одно время работала тапером в кинотеатре на Невском, а Лулу преподавала немецкий в бывшей «Петершулле».
— Теперь мама не работает, это благодаря помощи Лизаньки, а твои мама и папа живут плохо, бедствуют и совсем одиноки. Последние друзья — дьякон с Брониславом Геннадиевичем — уехали в Москву. Ты помнишь Бронислава Геннадиевича, помнишь, какой он красавец?
Еще бы не помнить!
Да, Лизанька! Это главное.
Она превратилась в крепенькую, веселую и мило кокетливую женщину. Познакомилась с Руди в Ленинграде на какой-то международной конференции по физике. Переводчица, выпускница ленинградского физтеха. Любовь была с первого взгляда, и в тридцать четвертом подающий большие надежды немецкий физик увез Лизаньку сначала в Швейцарию, а потом в Англию. Они с Деткой слушали с изумлением. Та жизнь осталась так далеко, и не было никакой связи, на письма в Сарапул ответов не было, а потом кто-то их предупредил, кажется, Сорин, что писать в Страну Советов близким не следует, чтобы не обрекать их, близких, на неприятности. Оказывается, не только посылать какие-то специальные купоны, на которые можно кормиться, как это делает Лизанька, но даже пригласить в гости.
Правда, Лулу на вопрос, возможен ли приезд родителей к ним в Америку, посмотрела затравленно и пробормотала что-то невнятное и вообще перед расставанием вдруг разрыдалась, просила почему-то прощения и ни с того ни с сего сказала, что Бронислав Геннадиевич ночует в коридоре в стенном шкафу, потому что кроме его отца в маленькой комнатке живет семейная пара — скрипач Иванский, его жена, певица Русского народного хора имени Пятницкого, и их психически больной сын.
— Твоим я все передам на словах, писем мне брать нельзя, — твердила Лулу.
Приметливый Детка потом отметил странное несоответствие: привезла же она письмо какому-то физику от брата, выходит, что в одну сторону можно, а в другую нельзя?
Да, в одну сторону было можно в исключительных случаях, и здесь случай был исключительный, но это она поняла лишь потом, когда ей посоветовали попросить Генриха вмешаться в судьбу того самого очкарика, ученика и помощника Руди. Он был приглашен на парадный ужин, который давала Лизанька в честь приезда Лулу. Сидел молчаливый весь вечер возле елки, украшенной позолоченными орехами и старинными хлопушками, лишь к концу разговорился, но уж лучше бы продолжал молчать.
Поначалу атмосфера на ужине была довольно натянутой. Щебетала лишь Лизанька, вспоминая прелести студенческой жизни в Ленинграде и бесконечно повторяя, как хорошо и весело жилось ей в СССР, какие замечательные ученые преподают в физтехе, какие прекрасные выставки происходят в Русском музее, какие чудные концерты в филармонии.
Руди смотрел на жену влюбленным взглядом, Детка мрачнел (им, непозволительно затягивающим возвращение на родину, такие речи звучали укором), а Лулу, низко наклонившись над тарелкой, сосредоточенно ела, отпивая из бокала прекрасное розовое вино, которое они с Деткой привезли из Франции.
Только коварным действием этого вина можно было объяснить ее совершенно неожиданный тост.
— Мы все за Рождество, — произнесла она каким-то срывающимся голосом, — поэтому я хочу выпить за тех, кого нет с нами, — за Леку и Сережу. Ты помнишь стихи Леки? — спросила она Лизаньку.
— Ну так, в общих чертах, — замялась Лизанька. — Я вообще-то большая поклонница Маяковского. Когда он выступал в Доме политпросвещения…
— О, кровь семнадцатого года, — тихо начала Лулу, —
Ещё, ещё бежит она:
Ведь и весёлая свобода
Должна же быть защищена.
Умрём — исполним назначенье.
Но в сладость превратим сперва
Себялюбивое мученье,
Тоску и жалкие слова.
Над столом повисло молчание. Очкарик Отто не просил учителя перевести русский текст, но Лулу ничего не замечала, она чокнулась со всеми, всхлипнула и сказала неожиданное:
— Какое странное было время. Петербург опустел. Мы пекли оладьи из картофельных очистков, грызли вонючую воблу, а по вечерам бегали на лекции Кони и Бехтерева, на концерты Кусевицкого, слушали Блока…
— Кусевицкий живет теперь в Америке, — некстати заметил Детка.
Лулу посмотрела на него невидящим взглядом, потом, будто опомнившись, прошептала: «Извините», а Лизанька, большая мастерица сглаживать неловкости, вдруг вскрикнула: «Гусь! Наш гусь! Он, наверное, уже дымится!» Потом резали и раскладывали по тарелкам золотого гуся, потом вспоминали, какие яблоки росли в садах Сарапула… Потом… Руди спросил, знакомы ли они с Лео, он слышал, что Детка сделал замечательный бюст Генриха, а Генрих близок с Лео, Лулу привезла для Лео письмо от брата, не передадут ли, конечно, передадут, спасибо, и передайте привет, мы учились вместе в Геттингене, скажите, что по-прежнему самые интересные мысли приходят в мою голову в поезде и что мы с Отто занимаемся изотопами урана, впрочем, я же сам могу написать..