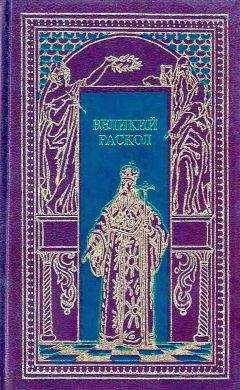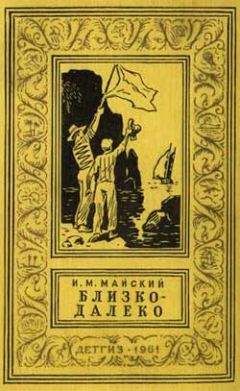Связав руки, Морозову подвесили к дыбе, но, даже испытывая невыносимые боли, с перекошенным лицом, она кричала боярам о том, что они предали истинную веру и забыли Бога.
Через полчаса ее сняли с дыбы. Руки, протертые веревкой до жил, кровоточили.
Трех женщин положили рядом и, накрыв руки тяжелой дубовой плахой, предупредили, что сейчас будут выжигать двоеперстие.
Урусова, не в силах перекреститься, заплакала. Тогда палачи, пожалев ее, дернули руки и суставы стали на место.
Руки Даниловой привязали кольцами и двое палачей стали ременными нитями стегать по ее спине.
Кожа на спине сразу покрылась кровью. Морозова, не в силах видеть это, отвернулась и заплакала. Урусова же давно уже была в обмороке.
Тогда боярин, руководивший пытками, повернулся к Морозовой и пригрозил:
— Если не покаетесь, сейчас и за вас примемся.
— И вы христиане! — закричала Морозова трем боярам, стоявшим у стола. Они, побледнев, отвернулись от боярыни.
Когда Данилову окончили сечь, она попросила полотенце, провела его по спине и протянула палачу окровавленную материю:
— Снеси-ка ты его к мужу моему, передай, что жена кровью кланяется, он тебя наградит за это…
С ужасом выслушал государь рассказ о пытках. Он не мог понять, как три слабые женщины выдержали такие мучения и не отрекаются от своих заблуждений.
Утром «сотворил царь сидение думати о них».
Бояре, созванные на совет, молчали. Кто-то посоветовал жечь отступниц, и Алексей Михайлович, услышав это предложение, вздрогнул.
— Безрассудное дело советует, государь, — вмешался князь Долгорукий. — Огнем не спасешь душу. Сын Божий молился за неверных, а не жег их.
— Так, так, — обрадовался этим словом государь.
После долгих споров было решено сослать непокорную Морозову в Новодевичий монастырь, держать ее там под строгим караулом и ежедневно водить в храм Божий, так как Морозова, как и ее сестра, не хотела ходить сама в церковь.
После того, как Морозову перевели в монастырь, множество народу стало приезжать туда, чтобы подивиться мужественной опальной боярыне.
С утра монастырский двор был запружен каретами и экипажами. Наезжало и немало боярских жен — некоторые полюбопытствовать, а некоторые и облегчить ее страдания. Вход к ней был свободен. Никогда еще после ареста не пользовалась она такой свободой, как здесь, в Новодевичьем монастыре.
Но с удалением непокорной боярыни в загородный монастырь соблазн для москвичей не уменьшился. По всей Москве только и говорили о страждущих ради старой веры сестрах.
Тогда государь Алексей Михайлович повелел перевести Морозову снова в Москву. Он надеялся, что визиты к ней вельмож и сочувствие со временем прекратятся.
По царскому указу Федосью Прокопьевну поселили в Хамовнической слободе, где ткали полотно для царского двора.
Боярыня нашла приют в доме старосты. Будучи сам ревнителем старого благочестия, он очень обрадовался своей новой постоялице.
Немало было последователей Аввакума и среди ткачей слободы. Еще раньше в их домах не раз находили приют Мелания и прочие морозовские старицы.
Доступ к опальной боярыне, пострадавшей за веру, был свободен, не говоря уже о том, что Мелания и Елена постоянно находились при ней. Из далекого Пустозерска Аввакум регулярно мог присылать свои послания.
Положение Морозовой немного облегчилось, и ее окружение теперь надеялось, что оно постепенно сделается еще лучшим.
Но вскоре все в судьбе Морозовой переменилось.
Ее сторонники понимая, что необходимо действовать через царя, стали обращаться к государевым родственникам с просьбами о помощи. Особенно часто разговаривала с царем о Морозовой старшая из государевых сестер, царевна Ирина Михайловна. Не проходило и дня, чтобы царевна не напоминала государю о заслугах мужа Морозовой, и просила пощадить стойкую женщину.
И в один из дней царь, раздосадованный приставаниями сестры, повелел начать строить в далеком Боровске специальный острог.
К зиме, когда острог был готов и установилась дорога в далекий Боровск, вышел государев указ отправить опальную боярыню Морозову на поселение в боровский острог. Вместе с ней были высланы из Москвы княгиня Урусова, Данилова, и еще позднее — инокиня Устина.
Почти месяц продолжался путь в санях от Москвы в Боровск.
Всю дорогу боярыня молчала, не разговаривала с тремя стрельцами, сопровождавшими ее, отвернувшись, смотрела на снежную пустыню, не кончающуюся на протяжении всей дороги. Проезжали города, деревни, и никто здесь не выходил, как в Москве, встречать страдалицу за веру, никого не интересовала ее судьба. Мелкие встречные равнодушно следили за двумя санями, ползущими друг за другом.
Наконец, сани притормозили, раздался скрип ворот, крики, лай собак и сани въехали в острог.
Морозова, разминая затекшие ноги, вышла из саней. Со всех сторон высились высокие, сверху заостренные светлые бревна стены, посреди стоял маленький светлый сруб для стражи. В центре двора возвышался низкий, как у колодца, сруб, поставленный над ямой.
И, увидев все это, сердце у Морозовой сжалось от тоскливого предчувствия. Она так много настрадалась в дороге, так много передумала во время пути, что прискачи сейчас гонец из Москвы и снова привези он послание от государя — не сомневаясь, отошла бы боярыня от старого благочестия, приняла бы старые почести.
Подведя ее к срубу, стражник откинул дверцу и, подталкивая Морозову к лазу, заставил ее спуститься вниз по лестнице. Как только она опустилась на землю, лестница сразу была вытащена, дверца захлопнута, и теперь свет едва пробивался в яму сквозь узкое, как бойница, окошко.
В яме было темно и душно, и Морозова, не зная, что делать, стояла прямо под дверцей, на том месте, где только что находилась лестница.
Постепенно глаза привыкали к темноте, и она различила возле стены несколько неясных фигур.
— Кто здесь? — спросила Морозова.
— Люди Божии, — ответил ей знакомый голос, и Морозова вздрогнула: — Устина, ты?
— Матушка! — закричала Устина, и девушка, вскочив с топчана, подбежала к Морозовой.
Вслед за ней поднимались еще две женщины, и сквозь слезы, всхлипывания боярыня поняла, что здесь уже неделю томятся ее сестра, Данилова и инокиня Устина.
Так началась новая жизнь опальной боярыни.
Как ни страшно было сидеть в яме, но наладилась жизнь и здесь. Вскоре женщины перешли на монастырский уклад жизни — долгие молитвы, песнопения, чтения Псалтыри.
Во время отдыха Мария Данилова, много побывавшая в святых местах, странствовавшая по Руси, рассказывала узницам об увиденном.
Женщины, напряженно слушая ее, вздыхали — Бог весть, удастся ли самим повидать всю эту красоту.
Среди стражи нашлись последователи Аввакума, и вскоре узницы смогли получать послания от ссыльного протопопа, в которых он поддерживал женщин и старался духовно их утешить. Дождавшись дня, когда свет слабо пробивался в яму, они снова и снова перечитывали письма.
Стали поступать из города и передачи — постепенно место заключения Морозовой и ее подвижниц узнали, и в Боровск стали наведываться московские староверы.
Стража, сперва строго обращавшаяся с женщина, помягчела — муж Даниловой, Акинф, теперь узнавал, кто будет послан для ревизии из Москвы в Боровск, зазывал к себе очередного сотника, поил, угощал, обдаривал подарками, передавал подарки и деньги для стражи.
Все шло благополучно.
Они так свыклись со своим существованием, что перестали даже таиться — теперь уже громче, чем обычно, молились, громче пели, не прятали книг старой печати и маленьких, специально писанных для удобного хранения образов.
Однажды на рассвете они были разбужены криками сверху, стуканьем открываемого лаза и шумом опускаемой сверху лестницы.
Вскочив, женщины смотрели, как по лестнице неуклюже спускается худощавый, маленький подьячий.
Добравшись до конца лестницы, он спрыгнул на землю и закричал:
— Дай сюда свету!
Но стрельцы намеренно не спешили, мешкали, чтобы узницы успели спрятать то, что было запрещено держать им в яме.
— Что, нет огня в Боровске? — бешено закричал подьячий. — Вот подождите, разожгу я вам огонек!
Наконец, два стрельца осторожно спустились в яму с пуками горящих лучин.
Подьячий, выхватив лучины, высоко задрал их над головой и недоверчиво оглядел своими маленькими рысьими глазами узниц.
— Что вы тут делаете? — громко закричал он.
— Что могут делать узницы? — ответила Морозова. — Молимся Господу Богу.
— Знаем мы, как вы молитесь! — еще громче закричал подьячий и быстро подошел к стене, на которой висело несколько икон. Внизу на полке лежали молитвенники и псалтырь старой печати, уже запрещенные к употреблению. Полистав книги, подьячий зло взглянул на Морозову и передал иконы и книги стражникам.