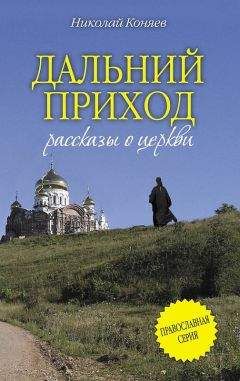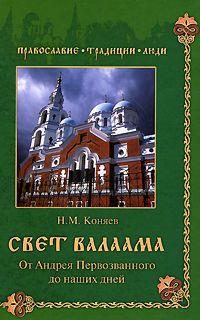Рубцова в суд на алименты, уже к весне сама прекратила это дело, моя собеседница ничуть не смутилась.
— Почему? — переспросила она. — Что произошло? А ничего… Судья объяснила мне, что я пять рублей по алиментам получать буду… Такие у него тогда заработки были…
Разумеется, задавая вопрос, я и не рассчитывал услышать в ответ историю о романтической встрече и примирении, но и такой простоты тоже не ожидал. Как-то не вписывалось это объяснение в мои представления о Рубцове, о его взаимоотношениях с Николой и ее обитателями.
И, пытаясь усвоить открывшуюся мне простодушно-беспощадную истину, я упустил инициативу в разговоре. И к счастью, упустил. Потому что, не смущаемая моими книжными вопросами о судьбе и предназначении, Генриетта Михайловна начала просто рассказывать то, что я пришел сюда услышать.
— Да я и не хотела на алименты подавать… — говорила Генриетта Михайловна. — Мать подговорила. Ну а когда она узнала, сколько мы будем получать, тоже уже не говорила больше об алиментах.
Рассказала Генриетта Михайловна и о том, как осенью 1962 года приезжал Рубцов к ней на день рождения в Ораниенбаум, где она работала почтальоном: «Он в Москву уезжал, а у него даже на электричку до Ленинграда денег не было. Я и купила ему билет…»
— А он… Он знал уже тогда о Лене?
— Дак я и сказала ему тогда, что беременна… Он в Москву уехал учиться, а я тоже недолго жила в Ораниенбауме. Вернулась назад в Николу. Здесь и родила дочку. А он, он и на каникулы приезжал и потом всю зиму здесь жил…
Я торопливо записывал рассказы Генриетты Михайловны о ее жизни с Рубцовым, и в памяти все звучали и звучали слова рубцовской «Прощальной песни».
Я уеду из этой деревни…
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.
Мать придет и уснет без улыбки…
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.
Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.
Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней…
Не грусти! На знобящем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.
Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.
У этого рубцовского стихотворения нет и никогда не было посвящения. И вместе с тем адресат его более очевиден, чем в любом другом рубцовском стихотворении. Я уже писал, что не принято отождествлять героя лирического стихотворения с его автором, но лирического героя «Прощальной песни» и поэта Рубцова, кажется, не разделяет ничто. В этом стихотворении поражает не только магия горьковатой печали, но и почти очерковая точность нищенского Никольского быта. Читаешь стихотворение и видишь заплывшую грязью Никольскую улицу, видишь мать Генриетты Михайловны — пожилую женщину, ощущаешь ее безмерную усталость: «мать придет и уснет без улыбки». С беспощадной и совсем не лирической точностью вписаны здесь и все перипетии романа Генриетты Михайловны и Николая Михайловича. Целомудрие горькой правды и делает это стихотворение шедевром русской любовной лирики.
Я так и не решился спросить у Генриетты Михайловны, знает ли она о «Прощальной песне», связывает ли это стихотворение с собою… Но я слушал бесхитростный и беспощадно-точный рассказ о «семейной» жизни Николая Михайловича, и он очень точно соединялся с продолжающими звучать стихами.
Конечно, Николай Михайлович и Генриетта Михайловна не подходили для совместной семейной жизни. И Рубцов был жестоко точен не только в стихах. Это ведь не Мария Корякина придумала про «женщину, у которой растет моя дочь». Это сам Рубцов так и представил Генриетту Михайловну Астафьевым. Но смущала Рубцова не деревенскость Генриетты Михайловны, не ее неразвитость. В «Прощальной песне» претензии лирического героя к своей подруге сформулированы гораздо более глубоко:
Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится словно в бреду.
Этого Генриетта Михайловна не знала, она действительно, как явствовало из ее рассказа, не слышала, не различала зловещего топота, раздающегося за спиной Рубцова. И не потому, что не хотела услышать, а потому, что не могла. И хотя, конечно, прискорбно это, но так было. Мистической окрашенности судьбы Рубцова не понимает Генриетта Михайловна и сейчас. И порою поражает даже, насколько она честна и искренна в своем непонимании. Никогда, ни раньше, ни теперь, она и не пыталась сделать вида, что понимает, не пыталась изобразить понимания. Подобная негибкость, разумеется, не самое приятное качество в спутнике жизни, но, с другой стороны, только так, не замечая их, и можно было бы одолеть страшные и темные силы, что преследовали поэта на его жизненном пути. И тут, конечно, не Генриетта Михайловна виновата, что Рубцов все равно не мог не замечать, не слышать «чудных голосов», льющихся из лесной гущи… Да и не хотел ведь Рубцов обрести спасительную глухоту.
Оставшееся до отъезда из Никольского тогда время я просидел на берегу Толшмы у развалин церкви, где некогда любил сидеть и Николай Михайлович Рубцов.
Часть церковного здания местные умельцы перестроили в пекарню. Две стены у этой церквопекарни церковные, две другие — бревенчатые. Рядом с церквопекарней на четырех колоннах — остатки церковного свода с проломленной прямо в оловянное небо дырой в куполе. На колоннах — так и не смывшиеся под дождями и непогодами за эти десятилетия лики…
Не знаю почему, но рядом с этими развалинами вспоминались не те стихи Рубцова, что писал он о разрушенных белых церквах, о лежащих под горой развалинах собора, а совсем другие, написанные им незадолго до смерти…
Я люблю судьбу свою,
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напьюсь,
Как зверь вечерний!
Сколько было здесь чудес,
На земле святой и древней,
Помнит только темный лес!
Он сегодня что-то дремлет.
Эти стихи, наверное, о самом сложном. О