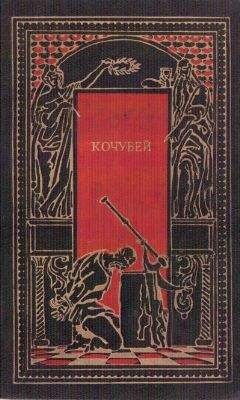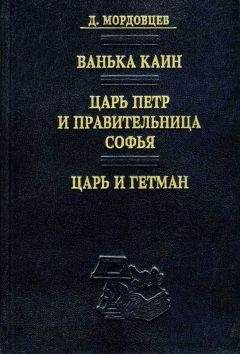Едва купеческий караван, с которым Лукьянов следовал из Цареграда в Москву, въехал в Паволочь и остановился на площади, как тотчас же был окружён любопытствующими казаками, у которых, как они жаловались, от скуки волосы стали прорастать на ладонях, долго, может быть, несколько месяцев не бравших сабель в руки. Лукьянов, который, проездов в Царьград, видел, как в Паволочи же его окружили казаки «голы, что бубны, без рубах, нагие, страшны зело», «все голудьба беспорточная», «черны, что арапы, и лихи, что собаки», — замечал теперь, что казаки смотрят уже не «голудьбою беспорточной», а порядочно одетыми, кроме тех, которые, «пропив штаны и сорочку», бродили в чём мать родила, одетые лишь солнечным лучом, да кое-где волосами...
— Видкиля, добри люде? — спрашивает один из таких молодцов, одетый лишь в солнечные лучи, подходя к каравану. Хотя он был весь голый, но на голове всё-таки красовалась казацкая шапка.
— Из Цареграда, родимый,— отвечает московский купчина, потолкавшийся по белу свету и всего видавший на своём веку. — Из самой турской земли.
— Добре... самого бисового сына козолупа бачили:
— Какого, родимый, козолупа?
— Вавилонську свиню...
— Не ведаю, родимый, — отвечает купчина в недоумении.
— Нашего Бога дурня, — настаивал голый казак.
— Не ведаю, не ведаю, родимый, про кого баишь, — недоумевает купчина.
— Та самого же салтана, иродову дитину...
— О! Видывали, видывали...
Увидев попа, голый казак, не забывающий своего человеческого достоинства, хоть оно и ничем не прикрыто, почтительно подходит к Лукьянову и, сложив руки пригоршней, протягивает их к священнику.
— Благословите, батюшка, козака Голоту.
— Господь благословит... Во имя Отца и Сына и Святого Духа...
— Аминь...
— Что это ты, любезный, без рубахи? — спрашивает священник.
— А на що вона теперь, батюшка? — в свою очередь невозмутимо спрашивает казак Голота. — И так тепло...
— Как на что, наготу прикрыть...
— На що ж прикрывати те, що Бог козакови дав? — озадачивает Голота новым философским вопросом. — Бог ничего худого не дав козакови...
— Так-то так, а всё же студно...
— Ни, батюшка, не холодно, саме впору…
Вот и говори с ним! Но в это время к каравану подходы хорошо одетый казак при оружии и также просит благословения у священника в свою массивную пригоршню. Получив его и как бы боясь просыпать, он продолжает держать перед собой пригоршню и говорит:
— Пани-матка полковникова прислала мене до вас, запрохати вас до господы.
— А кто это пани-матка полковникова? — спрашивает отец Иван.
— Пани-матка, батькова Палиива жинка.
— А! Спасибо-спасибо на добром привете... Ради ей, матушке, поклониться... Как с дороги малость приберёмся да пообчистимся, так и явимся к ней на поклон. Только где б нам, у какого доброго человека остановиться в избе?
— А в мене, батюшка, — радушно предлагается голый казак.
— У тебя, сын мой? — удивлённо спрашивает батюшка.
— Та в мене ж... У мене сорочки хоч и нема, так хата е: бо хату пропити неможно: пани-матка зараз чуприну почуха.
— Какая пани-матка?
— Та вона ж, вони ж, на в и полковникова... вони в нас строги...
— Ну, спасибо, друг мой... Где ж твоя изба?
— У миня не изба, а хата.
— Ну, пущай будет хата... Где ж она?
— А он-де, колы вербы, без ворот... Ворота пропив, та на що вони козакови?
И словоохотливый, радушный голяк, важно накрепив свою высокую смушковую шапку на бок, повёл гостей к своей хате.
— Хата добра… А жинка в мене умерла, от и некому сорочку пошити, — объяснял он отсутствие на себе костюма. — Були сорочки, що ще покiйна Хивря пошила, так як було подивлюсь на их, згадаю, як вона шила, та усякими стежками, та мережками мережила их, та зараз у слёзы... Ну, и пропив, щоб не згадувати, та не тужити по жинци...
И бедняк горестно махнул рукой. Две крупные слезы, выкатившись из покрасневших глаз, упали на пыльную дорогу.
И двор, и хата Голоты представляли полное запустение. Хата была новая, просторная, светлая. И снаружи, и внутри она была чисто выбелена, разукрашена красною глиною, узор на узоре, мережка на мережке!
— Се, бач, всё вона, Хивря, розмалювала... От була дотепна — грустно говорил бедняк, показывая гостям своё осиротелое жильё.
В хате то же запустение, словно недавно отсюда вынесли покойника, а за ним и всё, что напоминало жизнь, счастье... Стол без скатерти и солоницы, голые лавки, голые стены, голые нары без постели... Только под образами висело расшитое красною и синею заполочью полотенце, оно одно напоминало о жизни...
Гости, войдя в хату, набожно помолились на образа.
— Оце iи рушник Хиврин, — говорил Голота, показывая на полотенце. — Оцим рушником нам пип у церкви руки звъязав, на веки звъязав... Так смерть развъязала. Нема в мене Хиври, один рушник.
И бедняк, упав головою на голую доску дубового стола, горько заплакал... «Один рушник... один рушник зостався... щоб мене повиситись на ёму...»
Не более как через час после этого московские проезжие люди были уже на Палиевом дворе. Они несли с собою подарки для пани полковничихи: отец Иоанн нёс несколько крестиков и образков, вывезенных им из святых мест; купцы московские — кто турецкую шаль, кто сафьянные шитые золотом сапожки, кто нитку кораллов, кто коробок хорошего цареградского «инджиру».
Палииха встретила гостей на крыльце. Это была высокая, массивная, уже довольно пожилая женщина, на лице которой лежала печать энергии, а в обхождении проглядывала привычка повелевать. Серые, несколько стоячие глаза, которые в молодости подстрелили такого обстрелянного и окуренного пороховым дымом беркута, как старый Палий; орлиный нос с широкими ноздрями, для которых требовалось много воздуха, чтобы давать работу могучим лёгким; плотно сжатые хотя не тонкие губы, которые и целовались когда-то, и отстаивали вылетавшую из-за них речью права и достоинство этой женщины с страстною энергиею, — всё это говорило о цельности характера, о стойкости воли и недюжинном уме. На голове у неё было нечто вроде фески или фригийского колпака, спускавшегося на бок и закрывавшего её белокурые, густые, но уже посеребрённые временем и старостью волосы. На плечах — нечто вроде кунтуша, из-за которого виднеется белая, расшитая узорчато, сорочка с синею «стричкою» у полного горла и голубыми монистами на шее и на могучей груди. Сподиица — двуличневая, гарнитуровая. В руках — белая «хустка». На ногах — голубые «сапьянцы».
Ступив своей грузной, но свободной, мужской походкой навстречу отцу Иоанну, она наклонила голову, согнув только свою воловью шею и не сгибая спины, и ждала благословенья. Священник громко и внятно благословил и получил в ответ такое же громкое и внятное «аминь».
— Мир дому сему и ти, жено благочестивая!
— И духови твоему.
— Поклон тебе от супруга твоего, благородного полковника Симеона Иоанновича, и наше челобитье.
— Дякую, отче.
— Челом бьём тебе, госпоже, и нашими худыми поминками, — сказал купчина, низко кланяясь и шибко встряхивая волосами. — Прими наше худое приношенье, не побрезгуй.
— Дякую на ласци, дороiе гости... Прошу до господы...
Купцы низко кланялись, с удивлением глядя на эту новую Семирамиду. В Москве таких они отродясь не видывали... «Вот баба-яга», — вертелось на уме у старшего купчины: «Личах, конь-баба!»
Конь-баба грузно, но бойко повернулась, брязнула о пол рундука коваными подковками, звякнула бусовым монистом, визгнула о косяк гарнитуром своей широкой сподницы, словно стеклом о стекло, и вошла в свой дом, вдавливая дубовые половицы «помоста», как тонкие жёрдочки.
«Ну, конь-баба, подлинно конь»...
Поп и торговые люди робко следовали за нею, точно боясь, что пол под ними подломится. Они вступили в просторную комнату с широкими лавками вдоль стен, увешанных оружием и разными принадлежностями и добытками охоты. С одной стены глядела гигантская голова тура с огромными рогами. Массивный стол, покрытый шитою узорами скатертью, был уставлен яствами и питиями. На самой середине стола красовался жареный баран, стоящий на своих ногах и с рогами, перевитыми красною лентою. Против барана стоял жареный поросёнок и держал в зубах огромный свежий огурец, висевший на голубой ленте.
— Прошу, дороiе гости, до хлиба-соли, поснидати c дороги. Будьте ласкови, батюшка, благословить брашно cie и питiе, — говорила приветливая хозяйка.
Священник благословил. Палииха налила по чаре водки-запеканки и поднесла сначала попу, а потом и купцам. Выпили, крякнули, да и было отчего крякнуть: словно веником, царапнула по горлу запеканка.