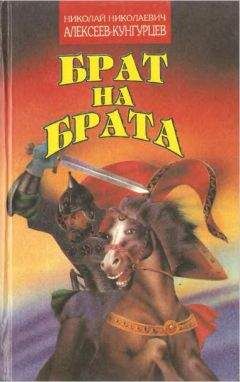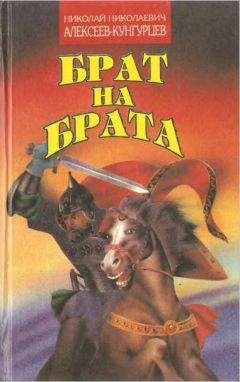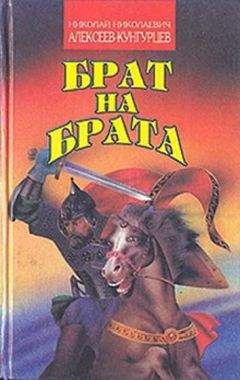— Богомольная ты у меня, — с умилением проговорила ее мать.
— Твоя правда, матушка-боярыня Анфиса Захаровна. На редкость богомольная: как служба в церкви, так она мне все уши прожужжит: «Феклуша да Феклуша, уговори матушку мою в храм ехать. Великая ей будет за это милость от Господа!»
На Катю эти похвалы производили странное действие. Лицо ее было краснее кумача, глаза беспокойно бегали, избегая встречи со взглядом матери или старухи няньки.
— Ишь, пылает! — усмехнулась боярыня.
— Известно, кто скромен, тот и похвалы стыдится, — заметила нянька.
От этих слов боярышня еще больше разгорелась, чуть слезы на глазах не выступили.
— Феклуша! Помоги мне одеваться, — пробормотала она, чтобы скрыть свое сл$угцение, и думала про себя: «Гадкая я, нехорошая! Всех обманываю… Вовсе я не богомольная, и не из-за богомольства люблю в церковь ездить: очи „его“ манят туда, а не молитва».
На другой половине дома боярин Степан Степанович Кречет-Буйтуров сидел за питьем горячего утреннего сбитня. Высокий, плечистый, с чуть приметною проседью в длинной темной бороде, лопатой падавшей на грудь, он казался гораздо моложе своих лет — ему уже было далеко за пятьдесят. У него был орлиный нос, холодные серые глаза, чувственные губы. Глубокая, никогда не расходившаяся складка между густыми, нависшими на глаза, бровями клала суровый оттенок на его лицо. Тонкие, неподвижные ноздри указывали на страстность натуры.
В это утро боярин был довольно хмур. Лениво потягивая сбитень, он морщил свои косматые брови. Ему вспоминался сон, виденный сегодня ночью. Ему снилось, будто он не боярин Кречет-Буйтуров, а волк, настоящий дикий серый волк, и как будто он подбирается к молодой овечке, беленькой, чистенькой, пасшейся среди поля без всякой опаски. И он подобрался к ней и схватил ее острыми зубами, да вдруг, откуда ни возьмись, явился какой-то человек, не то пастух, не то так, простой прохожий, да как вытянет палкой по боку, как схватит его за шею. — «Врешь, — говорит, — не отдам я тебе овечки!» И отнял добычу у волка да еще и бока ему помял. Больше всего боярина досадовало, что ему пришлось явиться в образе волка.
— Я — и вдруг серым волком! Экая глупость! — с досадой бормотал он. — И сон дурашный! Вчера много меда выпил пред спаньем, вот и приснилось.
В дверь просунулась седая голова.
— Что, Ванька?
— А я хочу твою милость спросить, — сказал Ванька, старый ключник боярина, входя в палату, — в санях поедешь в церковь либо в таптане?
— Погода, кажись, ничего.
— Весенний день, одно слово!
— Тогда в санях, только ковриком новым прикрой.
Холоп взялся за ручку двери.
— А сосед-то, Дмитрий Иванович…
— Что? — спросил боярин.
— Шубу себе новую сшил парчовую.
— Это на весну-то глядя! Ха-ха-ха!
— Хе-хе! — подобострастно хихикнул ключник. — Уж наша дворня и то со смеху чуть животы не надорвала.
— Как не смеяться! Это, вишь, он передо мной выказаться хочет. Сегодня в церковь беспременно в новой шубе придет.
— Беспременно!
— Заприметил, знать, что я намедни с усмешкой на его шубенку поглядел.
— С тобой тягаться хочет. Экий дурень!
— А что ж, почему ему не потягиваться? — ухмыляясь промолвил Степан Степанович.
Ключник схватился за бока и закатился деланым смехом.
— Ой-ой, не смеши, боярин! «Почему ему не тягаться!» Да у него и именья всего, что полушка с алтыном! Ха-ха!
— Как, как? Полушка с алтыном?
— Так и есть, боярин!
Степан Степанович расхохотался в свою очередь.
— А ему сегодня нос утру! Приготовь-ка ты мне мой новый тегиляй [9]; в церковь поеду — надену.
— Это алтабасный [10]?
— Да… приду в храм и нарочно шубу распахну, — жарко, дескать. Пусть моим тегиляем любуется! Ха-ха!
— Как бы с зависти языка не откусил! Хе-хе!
— Пожалуй, что. Однако, солнце уж высоконько. Сбираться пора. Поди и бабам скажи, чтоб они сбирались.
Хмурость Степана Степановича совсем прошла, и он, по уходу Ваньки, долго еще ухмылялся себе в усы и бормотал:
— А я ему нос утру!
В свою очередь Ванька, долговязый старик, с желтым морщинистым лицом, с хитрыми исподлобья смотревшими глазами, выйдя от боярина, ухмылялся во весь рот.
«Ведь вот и не дурак Степан Степанович, а какими глупостями тешится. Спесь заела! Видно, все бояре на один покрой», — думал он.
— Что, Иван Митрич, каков сегодня боярин? Сердит? — спросил ключника молодой парень из дворовых, приставленный к дверям в сенях для доклада о приезжих.
— Был хмур что туча, а теперь что солнышко весел.
— И как это ты, Иван Митрич, сумеешь завсегда боярина развеселить, диву даться можно!
— Не надо дурнем быть самому, а из боярина дурня делать, вот и все уменье, — ухмыляясь пробормотал ключник.
Через час у крыльца боярского дома уже гнула шеи и позвякивала бубенцами тройка добрых коней, запряженная в пестро раскрашенные и прикрытые узорным ковром сани. Скоро из саней выплыла Анфиса Захаровна и, поддерживаемая под руки ключницей Феклой с одной стороны и какой- то холопкой с другой, кряхтя, уселась в сани. Следом за ней вспрыгнула в них боярышня Екатерина Степановна.
Боярин замешкался на крыльце, отдавая какие-то приказания Ивану Дмитриевичу. Тот только кланялся в ответ и приговаривал:
— Слушаю! Сделаем, как твоей милости угодно.
Степан Степанович двинулся было к саням, запахивая шубу, из-под которой алтабасный тегиляй так и блеснул серебром, и остановился.
— Ванька! Кто это? — указал он ключнику на проходившую через дверь девушку-холопку.
— А это ж — Аграфена, дочь Петра-кабального, что помер на Рождестве.
— Да неужели она? Ишь, вытянулась да красоткой какой стала! А я помнил ее девчонкой махонькой. Как я ее не заприметил? — промолвил боярин и крикнул: — Эй, девица! Подь-ка сюда!
Стройная чернобровая и белолицая девушка робко подошла к боярину и, отвесив низкий поклон, смущенно уставилась на боярина черными, как две коринки, глазами.
— Тебя Аграфеной звать?
— Да, — тихо ответила она.
Потом, потрепав девушку по щеке и промолвив с плотоядной усмешкой: «Красотка, красотка!», — боярин сел в сани и крикнул:
— С Богом!
В воротах он еще раз обернулся и, посмотрев на Аграфену, пробормотал:
— Ладная девка!
Анфиса Захаровна только глубоко вздохнула, услышав замечание мужа.
В то время, когда Степан Степанович, подозвав Аграфену, беседовал с нею, в глубине двора стоял высокий молодой парень и угрюмо смотрел на эту сцену.
— Груня! — крикнул он, едва боярские сани выехали за ворота.
Та подошла.
— Что, Илья?
— О чем он с тобой говорил?
— На работы в доме назначил.
— Та-ак, — протянул Илья. — А по щеке чего хлопал?
— Красотка, говорит. Ну, и похлопал.
— Ишь ты! Не знаем без него, что красотка! — в голосе парня слышалась ревнивая нотка. — Ты, Груняша, его ласкам не верь.
— Еще б верить!
— Сдается мне, что он тебя неспроста работать в доме назначил.
— Кто его знает! Смотрел на меня так чудно.
— То-то смотрел! Подлезать он к тебе будет, вот что. Так ты, смотри, ухо держи востро.
— Как не держать! Дура я, что ли?
209
— Дура не дура, а только он ходок по бабьей части. Так тебя опутает, что и сама не заметишь.
— Не бойся, не сдамся! Али ты не люб мне, что ли, красавчик мой!
Груня положила руки на плечо Ильи и ласково смотрела ему в глаза.
— Эх, Грунька! Пока не поженюсь на тебе — спокою иметь не буду: и день, и ночь дума одна, как бы кто тебя у меня не отнял!..
— Али не веришь мне, соколик? — с упреком промолвила девушка.
— Тебе ль не верить! Верю, а так вот сам не знаю с чего, точно беды на нас с тобой жду. Сейчас вот, хочешь — верь, хочешь — не верь, как увидел я, что с тобой боярин ласково разговаривает, так у меня сердце и захолонуло.
— Полно, милый, что за страхи! — с улыбкой проговорила Аграфена.
— Грунька! Да скоро ль ты придешь? Али мне тебя тут до ночи дожидаться? — с сердцем крикнул молодой холопке ключник.
— Сейчас, Иван Митрич, сейчас! — отозвалась она, не трогаясь с места. — Вечером где свидимся? — торопливо спросила она у Ильи.
— Приди в сад, знаешь, к дубку, где летом видались.
— Ладно! Только стемнеет, урвусь, прибегу.
С этими словами девушка повернулась, чтобы удалиться.
— Груня! — остановил ее Илья, — Я думаю не мешкая у боярина просить дозволенная нам повенчаться. Спокойнее будет.
— Спокойнее, вестимо. Что ж, попытай! А только вдруг не позволит?
— Никто, как Бог!
— Попытайся, родной! До вечера!
И она быстро отошла от него.
Илья с невеселым лицом смотрел ей вслед.