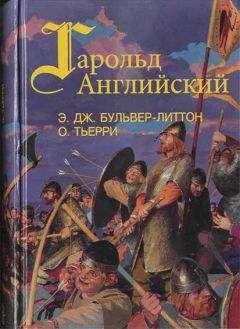Так пробились они через весь город к восточным воротам и выехали, потеряв из своей дружины только двух человек.
Выехав в поле, они для большей безопасности разделились. Те, которые могли говорить на английском языке, бросили кольчуги и стали пробираться лесами к морскому берегу; прочие же остались на конях и в доспехах, но также старались избегать больших дорог. В числе последних находились и оба правителя. Они благополучно достигли Несса в эссекском графстве, сели в рыбачью лодку и отдались на произвол ветра и волн, подвергаясь опасности погибнуть в море или умереть от голода, пока, наконец, не пристали к французскому берегу. Остальные члены этого чужеземного двора частью нашли приют в крепостях, оставшихся еще в руках их земляков; частью скрывались в ущельях и пещерах, пока не удалось им нанять или украсть лодку. Так произошло в лето 1052, достопамятное бесславным бегством графов и баронов Вильгельма Нормандского!
Витан собрался во всем своем великолепии в большой палате Вестминстерского дворца.
На этот раз король сидел на троне и держал в правой руке меч. Около него частью стояли, частью сидели несколько придворных чинов ниже британского базилевса[18]. Тут были постельничий и кравчий, стольник и конюший, и множество придворных других титулов, заимствованных, быть может, от византийского двора; это тем вероятнее, что в старину английский король величался наследником Константина. За ними сидели писцы, имевшие гораздо больше значения, чем можно было предполагать, судя по их скромному названию: они заведовали государственной печатью и захватили в свои руки власть, прежде незначительную, но в это время ставшую ненавистной англичанам. Из них-то возникло впоследствии могучее и грозное судилище – королевская канцелярия.
Ниже придворных было порожнее пространство, за которым помещались высшие чины Витана.
В первом ряду находились самые значительные по своему сану и обширности владений лица; места лондонского и кентерберийского правителей оставались незанятыми, но и без них было много величественных сановников англосаксонского происхождения. Особенно поражали свирепое, жадное, но умное лицо корыстолюбивого Стиганда и кроткие, но мужественные черты Альреда, этого истинного сына отечества, достойнейшего из всех государственных сановников. Вокруг каждого сановника помещалась его свита, как звезды вокруг солнца. Далее сидели вторые гражданские чины и короли-вассалы верховного сюзерена. Стул шотландского короля оставался пустым, потому что просьба Сиварда не была исполнена; Макбет сидел еще в своих крепостях или вопрошал нечистых сестер в глухом лесу, а Малькольм скрывался у нортумбрийского графа. Не занят был также стул Гриффита сына Левелина, грозы марок[19], владельца Гвайнеда, покорителя всего кембрийского края. Были тут и не особенно значительные валлийские короли-наместники, сторонники междоусобиц, истребивших королевство Амврозия и погубивших плоды славных подвигов Артура. Они сидели с золотыми обручами на головах, у них были острижены вокруг лба и ушей волосы, и они как-то дико смотрели на происходящее.
В одном ряду с ними, отличаясь от них и высоким ростом, и спокойными лицами, в своих шапках и подбитых мехом кафтанах, сидели, обыкновенно, графы, владевшие графствами и шайрами, и таны низших разрядов – хозяева сорочин и волостей. Но на этот раз их было только трое – все враги Годвина: Сивард, граф Нортумбрийский, Леофрик Мерсийский, тот, жена которого – Годива – еще и теперь воспевается в народных балладах и песнях; и Рольф Гирфордский и Ворчестерский; он, в качестве родственника короля, не счел нужным оставить двор вместе со своими нормандскими друзьями. В том же ряду, но немного в стороне, находились незначительные графы и таны высшего разряда, называвшиеся королевскими.
Далее помещались выборные граждане от города Лондона, имевшие в собрании такой вес, что нередко влияли на его решения; это были приверженцы Годвина. В том же месте палаты находилась главная масса собрания и самый народный его элемент, тут были те, кто заслужил уважение народа за мужество и богатство.
Заседание открылось речью Эдуарда, старавшегося склонить всех к миру и милосердию, но голос его дрожал и был так слаб, что слов почти было не слышно.
Когда король кончил, по всему собранию пронесся глухой ропот, и вслед за тем Годвин, сопровождаемый своими сыновьями, вышел на приготовленное для него место.
– Если, – начал граф со скромным видом и потупленным взором опытного оратора, – если сердце мое ликует от того, что еще раз мне пришлось дышать воздухом Англии, службе которой на поле битвы и в Совете я посвятил столько лет своей жизни, иногда предосудительной, быть может, по поступкам, но всегда чистой по помыслам... Если сердце мое радуется, что мне остается теперь только выбрать тот уголок родной земли, где должны лечь мои кости – с соизволения государя и вашего, сановники!... Если сердце мое радуется, что довелось мне еще раз стоять в этом собрании, которое прежде неоднократно внимало моим словам, когда грозила опасность нашей общей родине, – кто осудит эту радость? Кто из врагов моих, если у меня есть еще враги, отнесется без сочувствия к радости старика? Кто из вас не будет сожалеть, если суровый долг заставит вас сказать седому изгнаннику: «Не дышать тебе родным воздухом в последнюю минуту жизни, не иметь тебе могилы в родной земле!» Кто из вас, благородные графы и земляки, скажет это без сожаления?
Произнеся эти слова, граф остановился и, подняв голову, устремил на слушателей зоркий, испытующий взгляд.
– В ком, спрашиваю я, – продолжил Годвин после минутной паузы, – в ком хватит сил, чтобы без смущения сказать эти слова?!... У кого из вас достаточно силы произнести это?! Да, радуется сердце мое, что мне пришлось, наконец, предстать перед собранием, имеющим право осудить мои дела или признать мою невинность! Каким преступлением заслужил я наказание? За какое преступление меня с шестью сыновьями, которых я дал отечеству, присудили к волчьему наказанию, отдали на травлю, как диких зверей?... Выслушайте меня и ответьте потом. Евстафий, граф Булонский, возвращаясь домой от нашего короля, у которого был в гостях, вступил в доспехах и на боевом коне в город Дувр; дружина графа последовала его примеру. Не зная наших законов и обычаев, – я хочу пролить свет на прежние обиды, но никого не желаю подозревать в злом умысле, – чужеземцы самовольно заняли дома граждан и расположились в них на житье. Вы все знаете, что это было нарушением саксонских прав, потому что, как вам известно, у каждого сеорла на устах поговорка: «Каждый человек силен в своем доме». Один гражданин, руководствуясь этим понятием, – по-моему, совершенно справедливым, – прогнал со своего порога одного из служителей графа. Чужеземец обнажил меч и ранил его, произошел поединок – и пришелец пал от руки, которую сам вынудил взяться за оружие. Дошла весть об этом до графа Евстафия; он летит на место катастрофы со своими родными, где они убивают англичанина у его собственного дома!
Сдавленный гневный ропот послышался среди сеорлов, толпившихся в конце залы. Годвин поднял руку, требуя, чтобы его не прерывали, и продолжал:
– Совершив это злодейство, чужеземцы начали разъезжать по всем улицам с обнаженными мечами, резать всех, кто попадался им на дороге, и топтать даже детей копытами своих лошадей. Граждане тоже взялись за оружие... Благодарю Бога, давшего мне в соотечественники этих смелых людей! Они дрались, как мы, англичане, всегда деремся, убили девятнадцать или двадцать наглых пришельцев и принудили остальных очистить город от своего присутствия. Граф Евстафий бежал. Он, как вам известно, человек умный и сообразительный; он не сходил с коня, не брал куска в рот, пока не остановился у ворот Глостера, где наш монарх производил в то время суд и расправу. Он пожаловался королю, который, выслушав одного истца, очень разгневался за оскорбление, нанесенное его знаменитому гостю и родственнику, и послал за мной, потому что Дувр находился в моем управлении, и повелел мне собрать военный суд и наказать по военным законам тех, которые дерзнули поднять оружие на иностранного графа... Обращаюсь к вам, мужественные графы, заседающие здесь, – к тебе, знаменитый Леофрик, и к тебе, благородный Сивард! На что, скажите, вам графства, если у вас не хватит смелости или силы охранять их права?... Какой же план действия предложил я? Вместо военного суда, который распространил бы свой приговор на весь город, я посоветовал государю вызвать городского голову и старшин для объяснения их поступка. Король, потому ли, что я имел несчастье навлечь на себя его гнев, или же по внушению чужеземцев, отверг этот план действия, предписываемый законами Эдгара и Кнута. А так как я не желал и, – объявляю в присутствии всех – потому что я, Годвин сын Вульфнота, не смел, если бы и желал, войти в вольный город Дувр в доспехах и на боевом коне, с палачом по правую руку, – эти пришельцы убедили короля призвать меня в качестве подсудимого в совет Витана, собранный в Глостере и наполненный чужеземцами... Не затем вызывали меня, чтобы, как я предполагал, оправдать меня и моих доверских подчиненных, а для того, чтобы одобрить посягательства графа Булонского на права английского народа и разрешить ему безнаказанно издеваться над англичанами! Я колебался; мне стали грозить изгнанием; я поднял меч в свою защиту и защиту английских законов, поднял меч, чтобы не дать чужеземцам резать наших братьев у собственных их очагов и давить наших детей под копытами лошадей. Король созвал свои войска. Благородные графы Леофрик и Сивард, не зная причин, заставивших меня прибегнуть к оружию, стали под знамя короля, как их обязывал долг по отношению к британскому базилевсу. Когда же они узнали сущность дела и увидели, что за меня весь народ, желающий, чтобы наказали заморских пришельцев, графы Сивард и Леофрик вызвались быть посредниками между мною и королем... Заключено перемирие; я согласился представить все дело на решение Витана, который должен был собраться на этом же месте, я распустил своих воинов, однако чужеземцы уговорили короля не только удержать свои полки, но даже посоветовали призвать к оружию ближние и дальние области и пригласить союзников из-за моря. Явился я в Лондон, чтобы предстать перед мирным Витаном. И что же я нашел? Самое грозное ополчение, какое когда-либо собиралось в нашей стране! Вождями этого ополчения были нормандские рыцари. В таком ли собрании мог я ожидать правосудия? Несмотря на это, я согласился явиться с сыновьями перед Витаном, если нам дадут охранные грамоты, в которых наши законы наказывают одних только грабителей. Два раза повторял я это предложение, и оба раза мне отказали... Таким образом я и мои сыновья были осуждены на изгнание. Мы покинули отечество, но теперь возвратились.