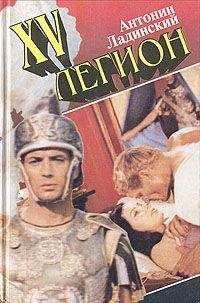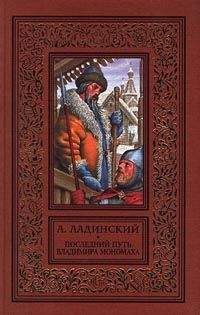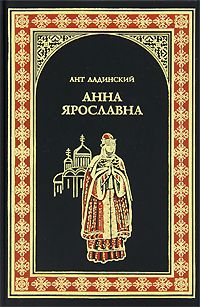– Друзья мои, – надрывался он, нелепо размахивая руками, – наши победоносные легионы изгнали врагов отечества, а вы скупитесь на чашу вина для бедного служителя сената.
– А ты причем тут, пьянчужка? – смеялись присутствующие.
– Низкая чернь, – негодовал старик, – вас еще не было на свете, а я уже записывал речи великого августа Марка Аврелия. В сенате, когда он отправлялся на войну с маркоманами. Я видел своими глазами славу Рима! Жалкие торгаши!
Старик бил себя в грудь кулаком и плакал пьяными слезами. Пьющие вино смеялись над его горем. За соседним столом мрачный меркатор жаловался:
– На что нам надеяться? Вот, например, я. Вез сто модиев перцу, чтобы продать его с приличным барышом в Карнунте или в Виндобоне. А тут задержка в пути. Кто мне возместит убытки? Ведь это же разорение! Третий день сижу в этой паршивой харчевне, проедаю и пропиваю деньги...
Седобородый колон сочувственно кивал головой:
– А наши нивы? Кто заплатит нам за потоптанные нивы, за порубленные виноградники?
Это был один из беженцев из-под Аррабоны. Когда прошел слух, что варвары отброшены за реку, люди устремились назад, на свои пепелища, посмотреть, что сталось с их домами. Все разговоры вертелись вокруг событий последних дней, оживленно обсуждались всякие слухи, и для каждого события немедленно находились очевидцы, которые все видели своими собственными глазами. Некоторые чувствовали себя в этой атмосфере как рыбы в воде, с удовольствием спорили, вмешивались в чужие разговоры, с блестевшими глазами допытывались подробностей о сражении под Аррабоной, точно надеялись, что вот-вот произойдет какая-то перемена в их скучной и бедной жизни. Только поселяне горевали о покинутых хижинах и погибших посевах, трудах их рук. Остальные – рабы, случайные прохожие, подозрительные люди из соседних городков, явившиеся сюда в надежде на какую-нибудь добычу, и даже почтенные ремесленники и торговцы, все чего-то ждали, волновались и с удовольствием пили вино. Шум беседы не затихал даже ночью. Под эти разговоры Виргилиан и Скрибоний уснули как убитые.
Мимо харчевни проходили вспомогательные части, какие-то конные центурии, военные обозы. Солдаты, почти поголовно весьма варварского вида, в звериных шкурах, в кожаных штанах, в плащах, забегали в харчевню и требовали вина. Дурк клялся, что вчера продал последнюю амфору, так как опасался, что такие покупатели не заплатят ни единого обола, а вино выпьют. Солдаты размахивали перед самым его носом огромными кулаками, ругались, коверкая латинские слова, но уходили. Они бы разнесли все его заведение, но недалеко на дороге стоял сам проконсул обеих Панноний Марк Клавдий Агриппа, а с ним шутки были плохи. Ему ничего не стоило распять десяток, другой солдат, для примера, где-нибудь у края дороги.
Временный шатер, Агриппы был разбит за харчевней, у горбатого моста, через который с грохотом переправлялись тяжело нагруженные повозки. Проконсул верхом на коне, в красном плаще, смотрел на проходившие части. За его спиной стояла группа приближенных и конная центурия скифов.
Лошади обоза, худые как скелеты, с выпирающими крестцами и с обтянутыми кожей ребрами, с трудом вытаскивали на мост повозки, на которые были навалены амфоры с мукой. Погонщики, вцепившись в колеса, помогали, но кони жалко бились в постромках.
– Кому принадлежат повозки? – спросил Агриппа.
Вытирая рукою пот с лица, один из погонщиков ответил:
– Второй дакийской когорте.
– Кто префект когорты? – обернулся Агриппа к своему табеллярию.
– Гедомар, проконсул, – ответил Бульбий.
– Запиши! Я допытаюсь от него, куда он девает овес.
– Бедный Гедомар, – шепнул Бульбий соседу, – теперь он пропал.
Повозки наконец благополучно перевалили через мост и спустились в сырую долину. За повозками двигались алы конницы на породистых каппадокийских и испанских конях. За ними гнали стада овец. Тут же путались под ногами возвращавшиеся к пенатам беженцы, маркитанты, всякий сброд.
Солдаты мочились у дороги, весело переругивались, тоже взволнованные походом, надеждой на добычу, на удвоенный паек. Среди этой суеты Виргилиан ехал с другом в повозке, направляясь в Карнунт. Расспрашивая беглецов в харчевнях, он узнал, что Грациан остался в городе. Мимо проходила когорта пехотинцев-классиариев в черных туниках и в черных шерстяных плащах. Солдаты мрачно месили грязь. Накрапывал дождь. До Виргилиана доносились отрывки солдатских разговоров, крепкая брань, крики центурионов. Если можно было верить слухам, Пятнадцатый легион нанес страшное поражение варварам и освободил Аррабону. Якобы 5000 варваров осталось на поле битвы.
Скрибоний задумчиво смотрел в туманную даль, туда, где на пустынных полях, может быть, лежали около Аррабоны горы мертвых тел и кружились стаи воронов. Ветер, прилетавший с поля, уныло свистел в кожаном верхе повозки. Может быть, это жаловались варварские души убитых, не просвещенные светом эллинской мудрости и обреченные на вечное скитание в холодных и темных пределах. Но разве можно сказать, что такое душа? Вчера они с Виргилианом до петухов проспорили о метафоре, вспоминали примеры великих грамматиков, приводили друг другу образцы метафорических приемов. Какой ничтожной ерундой казался теперь этот выспренный спор, подогретый чашей вина. Болела голова после попойки и было кисло на душе от сырости, от дождя, от солдатской ругани. И, в конце концов – что значат все эти метафорические тонкости в сравнении с самым главным, с самым важным на земле, с вопросом о том, для чего рождаются люди и почему они умирают?
– Аврелий, – неожиданно спросил он Виргилиана, – ты знаешь, что такое душа? Ты ведь беседовал с Аммонием...
Виргилиан улыбнулся, но улыбка была жалкой, точно Скрибоний коснулся самого больного места. Справа в мокрой роще мелькнул сельский четырехколонный приземистый храм, в котором, очевидно, окрестные поселяне приносили жертвы с молитвой о плодородии нив и садов, посвящали богам барашков и голубей. Фронтон храма напомнил о триаде Пифагора.
– Виргилиан, – продолжал Скрибоний, – прошу тебя, открой мне то, что тебе говорил Аммоний!
– То, что он говорит всем.
– Нет, я знаю, что избранным он открывает какие-то тайны.
– Уверяю тебя, я не слышал от него никаких тайн. Вероятно, он сам не знает, что такое человеческая душа. Но Аммоний говорил прекрасно и возвышенно. Так умеет говорить только эллин. По его словам, мировая душа не претерпевает изменений и неизменно правит миром. Она, как светом, озаряет мертвую материю. И мир, удаляясь от этого источника божественного света, постепенно превращается в темноту. Ничего нового он мне не сказал... Это – Платон.
– Мир подходящее жилище для такой души! – перебил, улыбаясь от величия образов, Скрибоний, вспоминая Платона.
– Аммоний особенно настаивал на том, что душа не ослабевает, не истекает, наполняя собою материю, как не теряет своего запаха цветок, как никогда не перестает сиять солнце. Но как совместить с этой прекрасной и божественной душой мою маленькую и робкую душу, я не знаю. Откуда она слетела ко мне, эта жительница небес? Почему она томится в человеческом теле, плачет, тоскует по лунному царству Гекаты? Ах, дорогой Скрибоний...
Когорта классиариев двигалась мимо, центурия за центурией. Шедший рядом солдат доел кусок, сала, потом похлопал рука об руку, делая вид, что отряхивает невидимые крохи, и сказал:
– Ну вот и набил брюхо. С утра не жрал.
Его сосед по ряду, белобрысый парень, вдруг поднял ногу и сделал неприличный звук. Но, вынырнувший откуда-то, всевидящий, как Юпитер, центурион склонил над ним налитое кровью и вином лицо в рыжей щетине коротко остриженной бороды:
– Ты, пещера со зловонными ветрами! Веди себя пристойно в строю. Или хочешь попробовать розог?
Парень покраснел от смущения, от страха за свою спину.
– И вот приходит смерть, Скрибоний, и в предчувствии расставания с миром она плачет, глядя на свою темницу. Куда она отлетает? На небеса? Сливается с мировой душой?
Их повозку перегнала тележка маркитанта. Серый мул в такт шагу кивал длинными ушами. На тележке восседала красивая полная женщина, кутаясь в плащ. Тщедушный человек с серенькой бороденкой, как у козла, продавал обступившим его походную лавчонку солдатам хлебы и вяленую рыбу. Рыжебородый гигант, только что распекший солдата за неприличное поведение, при виде женщины расцвел в улыбке, как роза. Он подъехал поближе и, склонясь к маркитантке, потрогал ее за подбородок. Женщина глазами показала на болезненного торговца, своего супруга, с которым в этот момент торговался какой-то солдат. Видя, что муж в коммерческом ажиотаже, увлеченный спором с солдатом из-за лишнего обола, ничего не замечает, женщина улыбнулась обещающе и выставила свою высокую грудь. Центурион самодовольно ухмыльнулся.
– Она отлетает в слезах... – продолжал Виргилиан, – и уже ничто, ни горе разлуки, ни воспоминания не заставят ее вернуться в покинутое тело. Но что оно без души? Падаль. Жалкое распадение атомов...