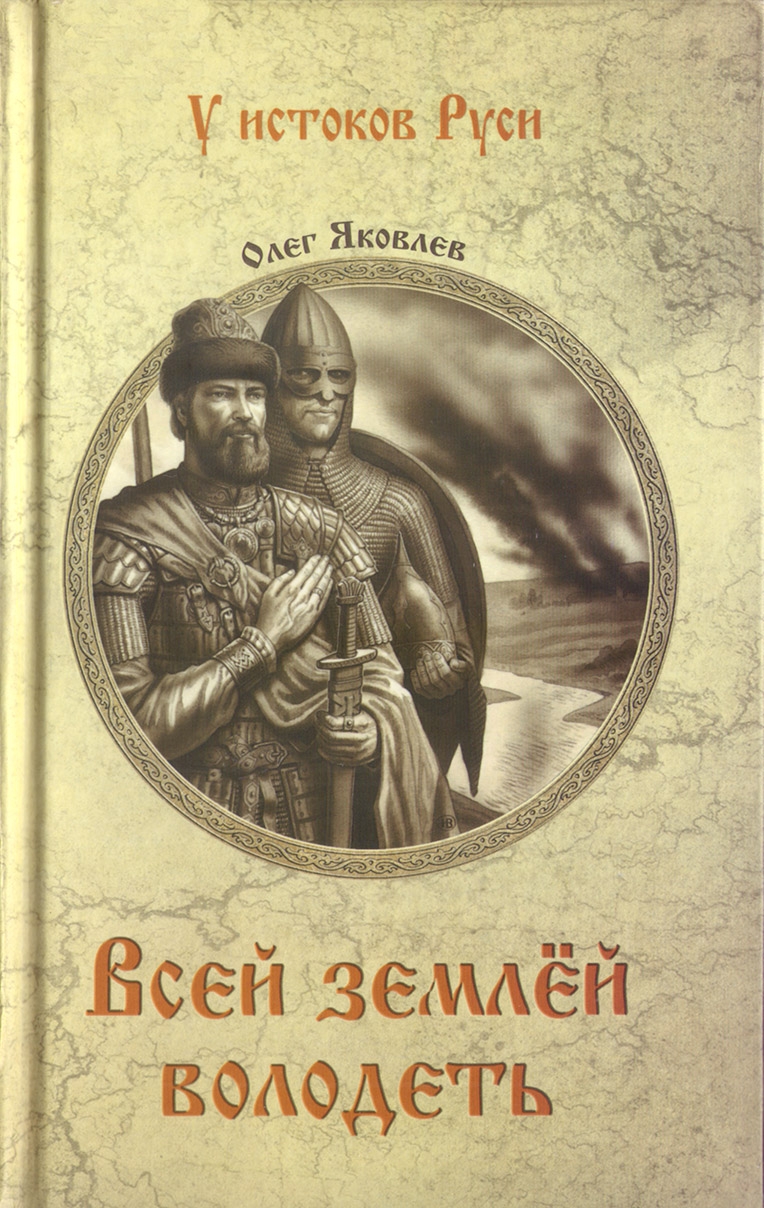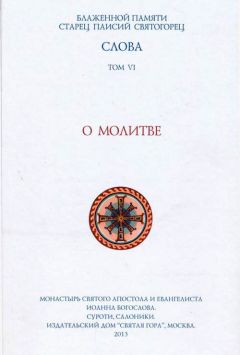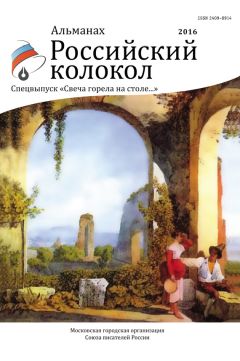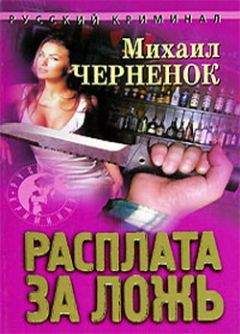наклонился к нему и что-то горячо зашептал на ухо.
«Колдун! Шаман! — пронеслось в голове Всеволода. — О, Боже! Спаси и сохрани!»
Шаман молча кивал, затем повернулся к хану лицом и громко возгласил:
— Да будет так, о великий и могучий!
— Каназ! — подняв десницу, торжественно произнёс Болуш. — Я не хочу воевать с тобой... Мы пришли сюда... Здесь хорошие пастбища... Зимовья. Мы жили в далёкой стране на восходе солнца, но туда пришёл песок... Мы, кипчаки, ушли от него. Мы будем пасти овец, коней, вы, урусы — делать хлеб. Я — в степи, ты — в своих городах. Кимак, принеси вино. Ромейское, доброе вино. Им скрепим мы нашу дружбу, каназ.
Слуга в войлочном халате поднёс Всеволоду и хану большие чаши, в которых искрилось тёмное красное вино.
«Отраву мог подсыпать!» — в страхе подумал Всеволод, но улыбнулся хану, ничем не выдав своих подозрений.
— По сердцу мне сказанное тобой, — промолвил он. — Вижу, ты великий воитель и великий глава своего племени. Только мудрый человек говорит такие слова. Он — бальзам для моего сердца.
Они чокнулись, расплескивая вино. Всеволод с опаской взглянул на ногти Болуша, чистые и ухоженные. Под ногтем мог быть яд — вот так часто греческие вельможи отравляют своих врагов. Тихонько опустят в чашу горошинку из-под ногтя, и через день-другой, а иногда через седьмицу [136] «друг и союзник» корчится в агонии.
Но у половца как будто яда не было.
На душе у молодого князя понемногу полегчало.
...Вечером, в сумерках, шли обратно по броду. Воевода Иван негромко говорил:
— Не верую в роту [137] половца. Но ведаю одно: боится он нас. Пото [138] и лебезит. А ещё — торки ему мешают. Равно как и нам. Так, верно, княже?
— Думаю, ты прав, — глухо отозвался Всеволод.
Всю ночь до рассвета он беспокойно ворочался на кошмах и не мог уснуть. Ему всё казалось, что к веже его крадутся кочевники, сжимая в руках острые кривые ножи. Он вскакивал, выходил из шатра, вдыхал полной грудью холодный степной воздух. Но всё было спокойно. Мерно нёс свои воды Хорол, журчала вода, мирно горели костры в лагере, мерцали в выси звёзды, белел Млечный Путь.
...Наутро на левом берегу Хорола не было ни одного кипчака. Лишь остатки костров, дымящаяся зола, вытоптанная трава да кучи навоза говорили о том, что ещё вчера здесь хозяйничали дикие орды.
Всеволод понемногу успокоился. Кажется, на первый раз ему сопутствовала удача. И сам невредим, и дружина цела, и пешцы. Он улыбался, с упоением взирая на ярко-голубой купол неба. Высоко-высоко над землёй распростёр крылья степной ястреб. За реку, на полдень нёсся он, улетая прочь от Русской земли, истаивая в необъятной дали, вскоре превратился в крохотную точку, азатем и исчез за расплывчатым, подёрнутым дымкой окоёмом.
Сквозь слюдяные стёкла окон падал неяркий ласковый утренний свет. Изнурённая Гертруда со слабой улыбкой взирала на прыгающий по стене солнечный зайчик. Слава богу, её мучения миновали. Крохотный сын-младенец, покричав, спит в колыбели в соседней светлице, рядом с ним — холопки и кормилица. Её, Гертруды, заботы на сегодня окончены. Можно лежать, отдыхать, слушать, как бегает за дверями челядь, как пробуждаются и щебечут птицы за окном.
К Изяславу, ушедшему в поход на Литву, посланы гонцы. Ночью, сразу после родов, тайно приходил отец Мартин, наказывал, чтоб сына нарекли Петром. Пётр, значит — камень. Пусть будет он твёрд в вере, как камень! Стоит ли во всём слушать Мартина?
Тихо скрипнула дверь. Рябая старуха-холопка доложила княгине:
— Князь Всеволод из Переяславля приехал.
— Позови его.
— Как? Прямо сюда?
— Сказала уже! Что, затрещину захотела?! — Гертруда угрожающе выпростала из-под одеяла руку. — Да, где мои рубиновые серьги? Подай, я надену.
...Всеволод, потоптавшись в дверях, несмело шагнул в наполненную ароматами благовоний опочивальню.
— Здравствуй, княгиня! — сухо промолвил он, встав у окна. — Как ты? Вижу: слаба, бледна. Наверное, тяжело это?
— Что тяжело?
— Ну... рожать.
Гертруда засмеялась.
— Это удел каждой женщины. Почти каждой. Кроме убогих монахинь.
— Сын. У тебя тоже сын. И у меня сын, — хрипло пробормотал Всеволод.
Проницательная Гертруда заметила, какой помрачнел и плотно сжал губы.
«Я права, права была! Он не любит Марию, жалеет, что не я его жена!» — пронеслась у неё в голове радостная мысль.
— Как Мария? Здорова ли? — спросила она, не сводя с лица Всеволода своих серых изучающих глаз.
— Мария? — Всеволод внезапно вздрогнул. — Да, во здравии пребывает. Вашими молитвами, княгиня.
— У тебя один сын. А у моего Петра двое старших братьев, — похвасталась Гертруда и снова засмеялась, нервно, тяжело. Не выдержав, она громко закашляла.
Всеволод резко повернул голову и взглянул на неё с заметным беспокойством.
Ты не должна волноваться. Лекари сказали, тебе нужен покой, ты утомлена. Мне лучше уйти.
— Нет, нет, князь! Останься. Так мне будет легче... Браслет! Мой дар! — ахнула она, заметив на руке Всеволода свой недавний подарок — серебряный браслет.
— Серьги с рубинами. Помнишь? — По лицу князя пробежала мимолётная улыбка.
— Помню.
Как зачарованный, смотрел Всеволод на лежащую Гертруду. Вот это — женщина, настоящая, не то что Мария — смесь льда, холода и ромейской надменности. Гертруда — живая, непосредственная. Какой у неё смех — заразительный, лёгкий, серебриста. А у Марии? Издевательский, сухой, полный презрения. Такую бы жену, как Гертруда! Тонкий стан, пышная грудь, волосы — золотистые, как хлебные колосья. И глаза — светлые и лучистые, и губы — сладкие, как мёд.
Всеволод подошёл к широкой постели, колени его тихо соскользнули на пушистый персидский ковёр, он наклонился и нежно поцеловал княгиню в нос. Пусть знает, что этот острый, большой, портящий её красоту нос не отталкивает Всеволода.
Гертруда ответила тихим довольным смешком.
— Я поправлюсь. Встану. У меня есть сёла и большой дом... за Днепром. Мои верные шляхтичи и саксонские бароны из свиты покойной матери будут охранять нас. Мы будем вместе. Я всё продумала.
Она говорила негромко, но с жаром, Всеволод угадывал в её голосе с трудом сдерживаемую страстность; в скупых, но резких движениях её просматривалась порывистость; в серых глазах, словно окутанных сладковатой пеленой, читались обожание и нежность. Сейчас она нуждалась более всего в ласке — в его, Всеволода,