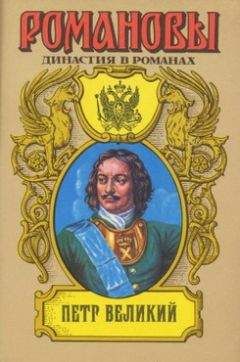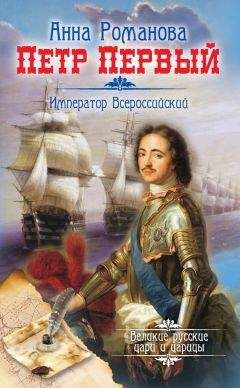— Может, так, а может, и не так, — простодушно возразил Суворов. — Может, не показалася ему и наша кумпанья… в золоте ходит и беседы ищет не такой, как наша… Мы, к делу и не к делу, с Иваном Елкиным[336] в дружбу норовим, а ему… выше подымай… виноградного надо.
— Не побрезговал, одначе, и хлебным.
— Зато и не показалось.
— Не показаться мог ему, понятно, и не совсем уместный — я тебе скажу — вопрос твой: сродни ли ему Алёша?.. Видишь, принялся ты описывать его не гораздо, да и брякнул ещё, никак, что краснокафтанник-от родня… А он, со своим Монсом, почитай, на всю Москву стал притчею…— вмешался до сих пор сидевший в тени молча гарнизонный солдатик. Приведён он был к Суворову товарищем, Михеем Ершовым, да и Михей сам мало его знал. А Иван Иваныч видал его у Михея всего раз один. Так что вмешательство, да с таким замечанием, заставило и Ершова, и Суворова посмотреть на говорившего с разными чувствами, конечно, но с одною мгновенно возникшею идеею: вот ещё нового знахаря вмешали в наши россказни непутные! Да кто он и как на его-то самого смотреть? Не с подвохом ли?
И Суворову, и Ершову сделалось на душе неладно.
— А вы знаете, что ль, этого самого? — будто спроста, а на самом деле пытая почву, осмелился спросить Иван Иваныч.
— Теперя, увидевши у вас, впервой спознал, какой он такой. Кажись, на вид тот, что знавали мы попрежь… много наслушались и в Питере, и здеся везде тараторят, что через Монса сделать все что хошь легко… а у его первый ходок на все пакости Балакирев.
— Врёшь! Ни на каки пакости не ходок Балакирев! — растворяя дверь с силою и схватив на лету последние слова, крикнул с гневом Алексей Гаврилыч. Был он полупьяный, как обыкновенно, и в этом положении крайне придирчивый и заносчивый.
— Не про тебя, голубчик, речь шла, успокойся! — добродушно молвил ему приветливый хозяин.
— Как не про меня?
— Это, голубчик, про Монсова Балакирева, — оправдывался солдатик, — тот и в солдатстве, как знал его, был уж пакостник, к попу, слышь, подлез… Знамо, что мошенник мошенника видит. Так-то и Монсу он показался, грабителю…
— Подойди, душа, поцелуемся, вот правду-то сказал, Монс мошенник, грабитель мой! — не владея собою, крикнул Алексей Балакирев и заругался.
Солдатик на приглашение встал, облобызал по-братски постаревшего сержанта и сел подле него.
— Расскажи, друг милый, потешь, что ты про Ваньку-мерзеца знаешь, про Монсова подхалима… Я его уж проклял… Родительски увещевал: брось ты этого Монсишку… а не то… погуби ты мне его… Потешь… За все, что вытерпел по его милости… так… нет: упёрся быком… Молчит, мошенник, да вдруг и улизнул… Я — туда-сюда… нет нигде. Хватил с горя и к вам приплёлся.
— Он тоже здесь был и про тебя выспрашивать вздумал, — не без ехидства возвестил Алексею новый названый друг, начавший такие откровения, от которых товарищ Суворова поспешил убежать, да и Иван Иванович стал сбираться уходить из мастерской.
Он надел армяк свой, взял с верстака шапочку и, дружески ударив по плечу Алексея Балакирева, сказал:
— До свиданья… пора домой. Каганцы велят тушить раньше четвёртого часа ночи, а теперя третий на исходе… Ступайте-ка… Запирать нужно.
— Ну… Ты, друг, ко мне… Истинно душу отводишь своею повестью про сына моего непутного! — с пьяными слезами заявил рассказчику Алексей Балакирев.
А рассказчик взял под руку Михея Ершова, и все трое вышли за Суворовым из двери.
Солдатик — клеветник отцу на Ивана Балакирева — был не кто иной, как оштрафованный Фомушка Микрюков, не по доброй воле высланный в Белокаменную, хотя и успел оправдаться.
Зная, кто он, понятны и причины его клеветы. Злость от сознания своего поражения и победы соперника колола и подстрекала Микрюкова к клевете самой ядовитой и чудовищной. Он видел в Иване Балакиреве врага, против которого все средства, в том числе и донос, позволительны.
Ощущение, что жёлчный рассказ Микрюкова об Иване Балакиреве клевета, было даже у Михея Ершова.
Что касается Алексея Балакирева, то он меньше придавал значения выдуманной сказке о сыне, а желал больше слышать о скверных делах врага своего Монса, но про эти-то дела и не сумел на первый раз придумать клеветник. Он, очевидно, прихвастнул, что знает Монсовы художества и слышал говор по целой Москве о его всемогуществе. Но по вопросам нового друга Фомушка, впрочем, понял, куда надо направлять речь, и пускал в дело своё богатое воображение. Он решил давать только уклончивые ответы на вопросы о делах Монса, обещая все рассказать в другой раз. Ему нужно было время на сочинение и обработку правдоподобных повестей. Случай, как увидим мы, помог на этот раз лжецу, не заставив его и долго ждать.
У Алексея Балакирева, за выставленным угощением, Фома Исаич ловко и умело закидывал тенёта, метко попадая на пункт, способные выдержать зацепку и дать ей поддержку. Оба гостя, в первый раз заведённые к Алексею, у него и заночевали. Солдата пьяного, тем паче ночью, задержал бы патруль на первой же площади; а Михей просто обессилел и не мог подняться с места.
Не в лучшем положении оказался и выведенный из кружала Иван Балакирев. Его посадили на пенёк у соседнего забора, и он дремал без шляпы на холоду. Суворов с товарищем, проходя мимо, узнали, кто это, отыскали лежавшую в стороне шляпу хмельного, и Суворов привёл его к себе — укрыть от тёмной ночи и мороза.
Проснувшись до света, Ваня мало-помалу припомнил все и прослезился от доброты Ивана Иваныча. Он умел ценить чужую доброту и привязался к своему укрывателю, смотревшему на него с соболезнованием. Стыд Вани и искренняя благодарность расположили и Суворова к нему. Честный Иван Иваныч признал, что сказанное солдатом или заведомо клевета, или относится не к этому добряку. После ночлега у Суворова поспешил к себе не без трепета Ваня. Он ожидал хотя и не сильного, но всё же выговора от Монса; а главное, вспомнил он приглашение Дуни. Она напрасно прождала и будет пенять. Дела оказались, однако, лучше. Монс рано увезён Павловым в подмосковную и едва ли воротится к вечеру, а Дуню взяла государыня с собой, отъезжая в Измайлово. Затем предстояло свидание с отцом на пробе; но, явившись к арсеналу, Иван получил в пару себе Поспелова, прибывшего накануне. Во вторую пару прибрали рослых: Алексея Татищева да Орлова, и Алексей Балакирев, очутясь в третьей паре, не мог, разумеется, говорить с сыном. Да к тому же его раньше роспуска потребовали для пригонки камзола к портным, тут же в Кремле под Потешным дворцом. Гарнизонных солдат расписали по дистанциям по всему маскарадному пути. Фомушка попал на первый притин — к арсеналу в Кремле. Там, под его присмотром, назначено было с верхнею одёжею стоять слугам господ, участвовавших в процессии. Становясь в ряд, снимали верхнее платье, в котором приехали, и оставляли у слуги.
Ловкий Фомушка тут же смекнул, как извлечь возможную пользу из своего назначения. Он сам предложил барским слугам: за алтын оставлять платье у него и уходить куда угодно. Денежные холопы обрадовались и тридцать алтын в шапку набросали Фомушке сразу. Другие, не имевшие при себе наличных, только вздохнули, что не смогут уйти. Фомушка обратился к ним, предлагая на первый раз поверить в долг, зато завтра принести взнос вдвойне. Нашлось восьмеро этим воспользовавшихся. В числе их был Мишка, слуга Василья Петровича Поспелова: малый ленивый, соня и рохля, весь в своего барина. Деньги у него водились, хотя и не всегда. Не желая обмануть служивого завтра, он прямо сказал:
— Коли хошь до воскресенья потерпеть, разом пять алтынов дам. Сам и приходи к нам во двор .. Стоим на Пречистенке… а теперя нету и до воскресенья… не будет… У нас Афонасей, дворецкий, по воскресеньям водочные отдаёт…
— Ладно, почему не поверить?.. Тем паче в воскресенье роздых… Может, милость будет, и угостите… во дворе?..
— У нас, братец, просто… народ добрый, спознаешь… мы рады доброму человеку…
И дружба завелась у Фомушки с Мишкой, а через Мишку — с дворецким и со всею дворнею… настоящий клад.
Маскарад давно кончился. Царь уехал, и государыня с ним. а с нею Монс и Балакирев. Поспелов тоже был в походе в отъезде, а люди его оставались в Москве. А у них первый советник и лучший друг оказался Фома Исаич Микрюков.
Вот приехал гневный государь судить распри светлейшего князя с вице-канцлером, и жутко стало многим господам, сторонникам того и другого. В людских, со слов господ, пересуды пошли, что и как.
Микрюков, составивший знакомство уже обширное, был первый оракул в подобных рассуждениях.
— Говорят, Шафирову[337] плохо, — молвил он с уверенностью, сидя за столом с братиною хмельного медку у ключника князя Михаилы Михайловича Голицына[338]. В московском доме своём князь держал по старинке громадную дворню, жадную к новостям и теперь разинувшую рот в ожидании услышать важную новость.