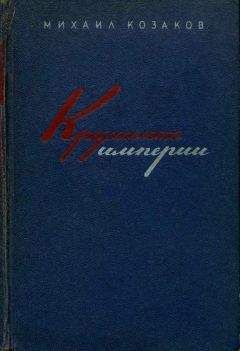Иван Митрофанович втянул на секунду к зубам свои мясистые губы и тотчас же разжал их наигранной улыбкой искренно недоумевающего человека.
— Боже мой, а вы откуда знаете?
— Знаю, Иван Митрофанович!
— Удивительно, право! Во-первых, этот парень мне никак не страшен: я даже не помню, когда я его до сегодняшнего дня видел…
— Не помните?.. — теперь удивилась уже Ириша: она держала в памяти Федино сообщение, из которого могла вынести совсем другое заключение.
— Конечно, не помню, Ирина Львовна… А во-вторых, каким образом вы можете знать, что он шпик!
— Странно… не помните… — размышляла она вслух.
— Откуда все-таки? — допрашивал Теплухин.
Она, закрыв рукой первые строки, показала ему конец Фединого письма.
— Вот, Иван Митрофанович…
— Действительно странно… — стараясь не выдать своего волнения, хмуро и медленно произнес он. — Надо будет подробно расспросить Калмыкова.
— Обязательно, Иван Митрофанович! Как только приедет.
«Но почему он пишет, что вы Кандушу видели неделю назад, а вы Кандушу не помните?» — чуть было не спросила еще она, но, сама не зная почему, не задала этого вопроса сейчас.
Вероятно потому, что Иван Митрофанович в этот момент торопливо пожал ей руку и, надевая шапку, сказал:
— Спасибо, однако, за сообщение. Мы еще поговорим об этом… Любопытно, любопытно, Ирина Львовна!
И — удалился.
Случилось то, что не могло не случиться.
Ни она, ни Сергей долго не решались включить свет и нарушить столь же долгое молчание хотя бы одним словом, как будто после всего, что произошло, уже не могли существовать старые слова: должны были заново родиться какие-то другие, ни разу еще не сказанные.
Сквозь обледенелое оконное стекло падал искривленный лучик прильнувшего к нему света из дома на противоположной стороне. Он не рассеивал комнатной темноты и только серебрил носок Иришиного сапожка, всегда казавшийся ей отлакированным: до того чисто были натерты носки обуви суконной подкладкой галош.
Она смотрела на этот серебрящийся сапожок, одиноко стоящий у металлической ножки Фединой кровати, и, чувствуя свою стыдливую и счастливую в то же время улыбку на губах, думала, что первый раз в ее жизни башмаки у кровати стоят порознь.
Она хотела, чтобы Сергей увидел сейчас ее улыбку, — тогда, может бить, легко и просто придут к ним обоим новые и замечательные слова…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Убит Распутин
В прошлом — ноябре — месяце Государственный совет, палата русских сановных старцев — эта тугая, непроницаемая пробка для мало-мальски прогрессивных поползновений Думы — принял резолюцию 105 голосами против 23 о «темных силах», вредящих государству, и значительно меньшим большинством, но большинством немалым — о смене правительства.
В старом Великом Новгороде собрались дворяне и приняли обращение к царю: «Здесь, в Новгороде, где зародилась Великая Российская Держава, в тяжелую годину еще небывалых в истории Русской земли испытаний, должен раздаться твердый, нелицемерный голос первого сословия, предостерегающий Государя от того опасного пути, на который влекут его лукавые советники».
В Петербурге говорили, что это обращение написал небезызвестный литератор из «Нового времени» на квартире Родзянко.
«По всей Земле Русской, — свидетельствовали новгородцы, — от подножья Престола (намек на великих князей) до хижины бедняка, не смолкает трепет тревоги народной. Из уст в уста передают зловещее слово: «измена». И остается у народу одна надежда: правдивый голос его избранников, обращенный к мудрости и силе духа своего Государя. Но если, к величайшей скорби народной, Государственная дума и Государственный совет не будут услышаны и являющиеся врагами общественного блага правители, которым страна не верит, будут подкапываться под устои народного представительства, если светоч, озаряющий тернистые, кровавые пути к величию и счастью родины, будет затуманен, — настанет мрак разнузданных страстей и неудержимой злобы. И тогда — Престол, Россия и ее упования будут ввергнуты в пропасть, в глубине коей погибнут лучшие силы и надежды России, ее честь, ее целость, ее достоинство, ее мощь и слава».
В других словах, но с той же целью: спасти трон от народного возмездия — составлялись резолюции союза городов, земских собраний, военнопромышленных комитетов, и даже всероссийский съезд объединенного дворянства требовал от монарха создать новое правительство, «способное к совместной с законодательными учреждениями работе».
Депутация первого сословия не была принята императором, а собрания всех остальных организаций были прерваны появлением полицейских властей, посланных царским надежей — Протопоповым.
Начальник штаба Ставки генерал Алексеев о чем-то усиленно переписывался с ненавистным царской семье «бреттером» Гучковым.
Пуришкевич вышел со скандалом из думской фракции «правых» и разоблачал в великокняжеских салонах затаенные помыслы своих вчерашних соратников о сепаратном мире. (По этому поводу, одобряя поступок Пуришкевича, кое-кто не без ехидства отмечал, что как раз два месяца назад этот знаменитый депутат-крикун и помещик лишился своих бессарабских имений, захваченных немцами.)
В Ставке в разгар военных операций царь скучал: играл в домино, раскладывал пасьянс — любимую «корзиночку» — и каждый вечер на сон грядущий читал по главе из английского романа, присланного Александрой, этой злополучной Марией Антуанеттой русского двора!
Письма от нее шли каждый день.
Они неизменно, как правило, начинались с описания царскосельской погоды или какого-нибудь пейзажа, затем следовало изложение весьма частых бесед «тоскующей женки» с особо приближенными министрами и «нашим другом» (Распутиным) — настойчивая просьба сделать все так, как они советуют, и не раз повторялся теперь вопрос, долго ли задержится на своем месте обезьяна Трепов, который на подозрении у «святого отца».
Еще большая ненависть была к «Длинному» — великому князю Николаю Николаевичу, отосланному на турецкий фронт.
«Надеюсь, что неправда, будто Николаша приедет сюда вскоре. Наш фронт здесь не имеет ничего общего с Кавказом. Не пускай его, злого гения. Он еще станет вмешиваться в дела. Будь, мое счастье, Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши их всех. Будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Дай им почувствовать порой свой кулак. Они сами просят этого. Сколь многие недавно говорили мне: «Нам нужен кнут. Это странно, но такова русская натура».
«Я сильна, — писала Алис, — не скрывай от меня ничего, но слушайся меня, то есть нашего Друга, и верь нам во всем.
Я страдаю за тебя, как за нежного мягкосердечного ребенка, которому нужно руководство, а он слушает дурных советчиков, в то время как Божий человек говорит ему, что надо делать. Вся моя вера лежит в нашем Друге, под его руководством мы пройдем через это тяжелое время. Это будет трудный путь, но Божий человек близок к тебе, чтобы охранять тебя и безопасно провести твою ладью мимо рифов. Если бы у нас не было его, все бы уже давно было кончено, я в этом совершенно убеждена».
Из Ставки в Петербург, в думские круги, пошли слухи о скором премьерстве Протопопова, — государь еще не называл его имени, но писал в Царское о калифе на час, Трепове, так:
«Противно иметь дело с человеком, которого не любишь и которому не доверяешь. Но раньше всего надо найти ему преемника, а потом вытолкать его после того, как он сделает грязную работу, я подразумеваю — дать ему отставку, когда он закроет Думу. Пусть вся ответственность, все затруднения падут на его плечи, а не на плечи того, кто займет его место».
Быстрыми шагами шел к власти и другой человек — «Ванька-каин» прозванный: Щегловитов — жестокий, высокий, холодный старик с розовыми щеками, всегда державший на ночном столике превозносимый им роман «Бесы».
Столичные журналисты за суетливой чашкой в кафе на Невском устраивали каждодневно политический тотализатор: «ставили» и на него и на Протопопова в премьеры.
Как сенсацию передавали, что во время приема царицей на днях великого князя Александра Михайловича, просившего от имени всей августейшей родни не вмешиваться в государственные дела, в соседней комнате дежурил рослый адъютант на тот подозреваемый случай, если бы понадобилось кинуться на помощь государыне.
Слух о возможности дворцового переворота вышел на широкую российскую улицу и безбоязненно бродил по ее истомленным пространствам.
Чего-то ждали все, но чего точно и когда оно должно произойти, — никто не мог сказать.
И вдруг в Петербурге раздался выстрел, эхо которого услышала вся Россия.
Восемнадцатого декабря рано утром генерал-майора Глобусова разбудил звонок телефона, который на ночь всегда переносим был Александром Филипповичем к изголовью кровати.