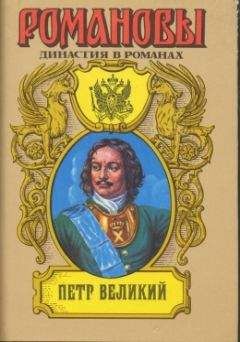Мастер прыгал от станка к станку, примерял пряжу. В толстой железной доске станка чернели дыры и поблёскивали изогнутые крючки, прикреплённые к рукояткам. Работные по знаку мастера ухватились за них и начали вертеть.
– Ходи!
Каждый мускул напрягался, немели руки, рубахи пропитывались потом. На одно бы мгновенье остановиться, вздохнуть полной грудью. Но прядь бесконечна. Как ни торопись, она все ползёт и ползёт, обматывает всю твою душу и тело. А тут ещё эти проклятые окрики, подзатыльники. Они вновь и вновь пробуждают сознание, не дают забыться. Точно голос хозяина, скрипит колесо, ползёт одноликая пряжа, суровая и тягучая, как подъяремная работная жизнь.
– Ходи!
До позднего вечера пробыл Фома у купчины. Старик не отпускал его от себя, поил, кормил и всё уговаривал «ещё чего-нибудь обсказать про святые места».
Атаман не ломался – ел вовсю и молол всякую ересь. Когда к хозяину пришли гости, он собрался было в дорогу, но старик и тут не отпустил его.
– Божий человек православным не в помеху. Так ли, гостюшки?
Фома сдался на уговоры и присел к столу. День был скоромный. Подали мясных щей, гуся, баранину. Насытившись, гости помолились на образа и приступили к своим делам.
– Возьмём, к прикладу, канаты, – степенно басил криворукий старик, кум хозяина. – Нешто такую брали бы мы цену, ежели бы сим промыслом крестьянишки не занимались?
– Сице, сице[291], – вздыхал сочувственно атаман.
– У них и канаты лучше, – продолжал кум, – и цена дешевле. Потому как они сами, своим домом робят…
– Да и за прибытком великим не гонятся. Нешто за ними дотянуться? – подхватил Трифон Иваныч.
– А дотянемся! Иль пути не показаны государем? Меня хоть возьми. Сколь у меня фабрик нонеча? Одна. А из одноей вскорости три сотворю. В деревнях фабрики поставлю, где крестьянишки канатным промыслом промышляют. Всё рукомесло ихнее закупать у них буду, казной ссужать буду. И не мигнут, как в долги ко мне с ушами влезут… Вот как действовать надобно.
– Сице, сице, – поддакивал Фома.
Со двора донёсся стук молота о чугунную плиту. Фома выглянул в окно. Из сарая, шатаясь и продирая глаза, выходили работные.
– Благодарим тя, Христе Боже наш, – низко поклонился Памфильев, – яко насытил еси нас земных твоих благ.
– Куда же ты, отче, на ночь глядя? – забеспокоился хозяин. – Остался бы.
– По обету сон приемлю под небом…
На улице Фома подошёл к дожидавшемуся его Ковалю и свернул в переулочек к Волге. На берегу, далеко одна от другой, стояли курные избёнки – обиталища бурлаков, ремесленников и гулящих людей.
– Вот и мои хоромины, – потянулся Сенька. – Второй месяц тут жительствую.
Избёнка была чуть больше свиного загончика. В зыбке головой к голове лежали две девочки, дочери Коваля. Младшая вскинулась и заплакала. Ничего не соображая, простоволосая, с измождённым лицом женщина приподнялась и ткнула ребёнку дряблую длинную грудь.
– Так и жительствуем, Фома, – понурился Коваль. – Попотчевал бы, да опричь тараканов в избе не найдёшь ничего… не взыщи.
Коваль опустился на пол, с трудом разодрал губы в тщетной попытке ещё что-то сказать, но только зевнул и тут же на всю избу захрапел.
Глава 9
БРЮХО – ОНО НЕРАЗУМНОЕ
Утром, едва проснувшись, Коваль отправился с Фомой в город.
День был праздничный, благовестили к заутрени. Сенька, хоть улицы и были почти пусты, из предосторожности снял шапку и, почтительно слушая атамана, через каждые два-три шага кланялся и крестился. Тащившиеся в церковь молельщики, тронутые «ревниво проповедующим слово Божие старцем», подавали ему от щедрот своих медные гроши.
Атаман принимал подаяние и тут же отдавал его товарищу:
– Мне деньги не надобны. Птица небесная не сеет, не жнёт.
Как только надоедливые молельщики проходили, Коваль продолжал прерванный разговор:
– И донцы, говоришь, и уральцы?
– Послы уже у нас, в лесу.
– Значит, утресь должен я по всем фабрикам…
– Возьми Христа для, – протягивалась снова рука к Памфильеву. – Не обессудь.
Коваль, проклиная сердобольных старух и сгорая от любопытства, тащил товарища дальше, в безлюдные переулки.
– А вдруг обманут донцы? Помнишь, как тогда обманули?
– Чего загодя думать! Увидим.
Расстались они на торгу. По площади, видимо, без всякой цели шатались работные и гулящие. У перекрёстка стояла с протянутой рукой жена Коваля. Девочки-близнецы копошились у её ног на рогожке. Торговцы выкладывали на столы товары. Кое-где, ещё лениво, слышались выкрики:
– Мыло! Мыло! Из чистого жиру! Хочешь, лик умывай, хочешь, в щи заправляй!
– Калачи-калачики! Подходи, братчики!
Узнав женщину, Памфильев не вытерпел, подошёл к ней.
– Христарадничаешь?
– Робила бы, да не берут с малыми детками.
– А в скит пойдёшь?
– Коли Коваля воля будет…
– Есть уже его воля.
Город постепенно пробуждался. Улицы загомонили ребячьим смехом, скрипом возов, перебранками. Кто-то валялся уже под забором и орал похабные песни. Позванивая вёдрами, шли девушки по воду Из заволочённых оконцев курных изб сочился дым.
Вдруг где-то в глубине послышался барабанный бой. Люди насторожились. Из окон высунулись любопытные и тотчас же скрылись. Бабы, ещё не понимая, в чём дело, на всякий случай побежали на двор загонять птицу в сарай.
К кремлю шагали войска.
Из церквей с поднятыми иконами и хоругвями двинулся крёстный ход. Вначале недоверчиво, потом смелее к кремлю продирались люди. Солдаты построились. Вновь забили барабаны, рявкнули трубы, и народу был прочитан указ.
– Костьми ляжем за крест Господень! – первыми взвыли купчины, точно опасаясь, что кто-нибудь их опередит. – Не оставим на погибели братьев наших меньших, православных славян!
Весть о грядущей войне с турками придавила толпу. Один за другим убогие покидали площадь и со всех ног мчались домой. К полудню рынки запрудились коровами, свиньями, птицей, домашним скарбом.
– Купи, задаром отдам! – чуть не плакали невольные торгаши.
– А не отдашь, прибыльщики все равно за так отберут, в запросные сборы, – посмеивались прасолы и купецкие приказчики.
Купчины потчевали начальных людей и под звон кубков обделывали свои дела.
– Под Прут, сказываете? Да тут канат нужен самый первейший, потому река неизвестная. На корабле канат – главная музыка.
– Да и без рыбки солёной воинству никак не прожить.
– А мыльце? Нешто можно без мыльца?
В кремле набирали добровольцев. Гулящие, беглые, бурлаки ходили вокруг поручиков и не знали, как быть. Иные, решившись, подходили к столу, но в самое последнее мгновение пускались наутёк.
Давно уже работные не видели такой ласки, с какой встретили их купчины, мастера и надсмотрщики.
Трифон Иваныч вышел на двор с высоко поднятой иконой.
– Поздорову ли, православные?
– По здорову, благодетель наш, – хлопнул себя ладонью по животу Коваль. – Мы-то по здорову, да вот брюхо мутит.
Купчину покоробило.
– Оно, конечно… Брюхо – оно неразумное.
– А от ласковых глаголов, думаешь, брюхо заспокоится?
Работные сомкнулись плотнее вокруг Коваля:
– Так его, Сенька! Чеши!
Трифон Иваныч шепнул что-то мастеру. Тот послушно шагнул к воротам, но Коваль преградил ему путь:
– Я те покажу за ярыжками бегать!
Толпа загудела и угрожающе подступала к хозяину:
– Пошто ярыжек кличешь, Трифон Иваныч? Иль без них не споручно с работными толковать?
Мастер вырвался от Коваля и побежал. Его озверелое от испуга и ярости лицо ещё больше озлобило работных. Все страшные дни у станков, голод, побои, унижение, беспросветность разом всплыли наружу и затуманили голову. Удар по темени свалил мастера.
– Бей! Бей их, катов! – неистовствовал Коваль.
Из сарая вырвался сноп пламени. Какой-то мальчик выскользнул из двери с полыхающей пряжей и скрылся в соседней мастерской.
Вдалеке, через несколько улиц, к небу взвились столбы чёрного дыма. То по уговору с Ковалем орудовали у себя на фабрике другие работные. Город взбаламутился. По улицам бежал с ослопьем, камнями и молотами народ. Из лесу выскочили станичники. Прежде чем начальные люди успели опомниться, сгорело полгорода.
Разбившись на мелкие отряды, ватажники и убогие громили хоромы и, не принимая боя, уходили с наживой в лес. Генералу, вздумавшему преследовать бунтарей, Памфильев подкинул коротенькое воровское письмо:
«Сунься токмо к нам, всех до единого полоняников перебью».
– Да пропади они пропадом! – выругался генерал, чувствуя своё бессилие. – От них станется! – И отменил приказ «чинить облавы».
Связанных купчин и приказных приволокли в становище атамана.
– А! – расхохотался Фома, увидев Трифона Иваныча. – Вот спасибо, что проведать пришёл!
Купчину трясло. От страху он лишился языка, бессмысленно вращая глазами, что-то мычал.