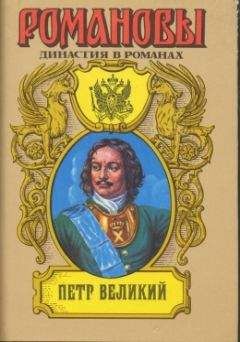– Государев слуга, – икнул вдребезги пьяный боярин.
– Врёшь! Не слуга, а ворог.
– Ей-Богу, слуга!
– А коли слуга, послужи верою мне.
– Вели, государь.
– Пролазь скрозь стул.
– Тоись как?
– Так вот. Сейчас тебя добрые люди поучат.
По знаку царя Ягужинский и Меншиков схватили боярина за руки.
– Протискивай его, милые! – гоготал Пётр. – Я стул держу… Бока дави ему Нажми!
Один из гостей осмелился попенять на «зазорную» шутку. За такую дерзость Пётр приказал сорвать с него все одежды. Женщины с визгом бросились вон из трапезной, но Головкин стал у двери и, корчась от хохота, загородил им дорогу.
Дворянин Мясной, красный от возмущения, вступил с канцлером в спор. Тогда царь бросился на него:
– Сызнова ты? Думаешь, ежели я единожды промолчал, так уж и воля тебе завсегда язык помелом распускать?
Слова эти мгновенно вышибли у дворянина и гнев, и хмель.
– Облыжно, ваше царское величество! Никогда я противу вас не болтал.
– Ежели у тебя память отшибло, мы подмогаем тебе вспомнить. Не так ли, Фёдор Юрьевич? А?
Раскачиваясь и пыхтя, к Мясному вместе со стулом придвинулся Ромодановский.
– Облыжно? А кто говорил, что царь-де сулит возвеличить державу, а сам норовит её немцам продать? Не ты?.. А про то, что царь-де народ надувает, тоже не ты? А ещё не ты ли говорил, что пускай-де народ надувает, а меня не надует?
– Мехи сюда! – так дико заорал царь, что все в ужасе попятились к двери. – Мехи кузнечные!
Пока разыскивали мехи, Мясного под свист шутов раздели и обрядили в скомороший колпак.
– Не надую, сказываешь, скоморох? – гремел Пётр. – Ан врёшь! Ан надую.
Когда принесли мехи, царь сунул трубку между ягодиц обмершего Мясного и начал качать. Дворянин взвыл не своим голосом. Живот вздувался, лицо посинело, как у висельника. Глаза стали огромными, красными и, казалось, готовы были выскочить из орбит. Но Пётр уже ничего не соображал, с жутким упоением безумного продолжал накачивать воздух.
– Помрёт! – не выдержав, крикнул вице – адмирал Крейц.
Царь вздрогнул и тупо огляделся вокруг. Трапезная была пуста.
У его ног лежал недвижно Мясной.
Петру не хотелось новой войны с турками. И военный совет, и даже охочие до прибытка купчины – все сошлись на одном: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Надобно со шведом разделаться перво-наперво, а там поглядеть».
Пётр в ответ печально качал головой:
– Да нешто лез бы я на рожон, коли б не сидел в Порте Карл? Пускай турок прогонит его от себя, и конец: не будет войны. Пока Карл у них, не могу я в спокойствии быть. Будет он чинить мне там каверзы. И Толстой про то же отписывает.
От Петра Андреевича и в самом деле всё чаще приходили недобрые вести. Посол доносил, что «Карл мутит султана елико мочно», и ни в каком случае не советовал уводить войска с южных рубежей к Балтийскому морю.
Вскоре стало известно об участившихся стычках русских солдат с янычарами. Турки с каждым днём смелели всё больше и больше.
– Выходит, и впрямь война? – словно ещё не веря несчастью, спрашивал государь.
– Не инако так, ваше величество.
И войска потянулись к Дунаю. Остерегаясь старинных врагов своих, татар, царь распорядился «отнюдь избегать встречи с турком в Крыму».
Военный совет единодушно одобрил эту мысль.
– Воистину, – заявил от имени всех генералов Репнин, – ежели биться, то только на Балканах. Там как-никак православные, кои всем сердцем ненавидят насильников своих, турок, а к нам льнут как к братьям по вере и крови.
Пётр бросил немало денег в Молдавию, Сербию и Черногорию. Русские вельможи подкупали знатных людей, духовенство и, как могли, сеяли между славянскими народами ненависть к «злым ворогам Иисуса Христа».
У молдавских рубежей под началом князя Михаилы Голицына стали десять драгунских полков. Из Ливонии с двадцатью двумя пехотными полками туда же спешил Шереметев.
Наконец от Шафирова прибыл гонец с донесением об окончательном разрыве Порты с Россией.
– Ах так! – словно бы даже повеселел царь. – По крайности один конец. Все ж лучше, чем сидеть да на мутной воде гадать! – Он привлёк к себе Меншикова и Ягужинского: – А вы, господа, вот чего… Ты, Александр Данилович, в «парадизе» заместо меня останешься, а ты, Павел Иванович, при Сенате сиди. Поучать не хочу – сами знаете, каково действовать. – И перевёл взгляд на Екатерину; подумав немного, хлопнул её по плечу: – А с тобой, Катерина Алексеевна, хочу вдвоём на Молдавию двинуть. Поедешь?
Царица молча приникла к его груди.
– Ну, вот и добро. Теперь можно учинить сидение Сената…
Сидение уже кончалось, когда в терем ворвался бледный и возбуждённый князь-кесарь.
– Лихо! Разбойные ватаги, с проваленным стрельцом беглым Фомкой Памфильевым в коноводах, на Москву идут!
Все растерянно воззрились на него. И тут Фёдор Юрьевич, к великому гневу государя, неожиданно загоготал.
– Ума решился! – воскликнул Пётр. – Обалдел, мымра, от страха.
Ромодановский ещё пуще заржал:
– Чести, Пётр Алексеевич! А токмо мымра твоя не зря тайными делами ведает. Покеле вы тут про военное сословие который год судили-рядили, мымра твоя старым чином, древнерусским маниром полки дворянские собрал.
Государь крепко обнял Федора Юрьевича:
– Чем только благодарить тебя буду!
– Не дразни мымрою…
– Пускай язык мой отсохнет, ежели ещё когда-либо слово сие произнесу.
– Смотри же, Пётр Алексеевич.
Ягужинский, что-то обдумав, поднялся и напыщенно произнёс:
– Господа Сенат! Дружины, иль э врэ[301], дело великое и весьма верное. Не раз показали они службы свои престолу. Но дружины – что? Ныне они на коне, завтра в поместьях. Не годится сие в наше время. Сколь говорилось о сём у нас, а всё дело не двигалось. Сдаётся мне, нужно сословие военное укрепить незамедлительно.
Пётр, одобрительно кивая головой, выслушал «птенца».
– Истинно. Больше некогда ждать. И посему приговариваю: по всему государству, на манир Семёновского и Преображенского, задержать при полках офицеров, кои не вправе до особого приказу службу бросать. Так ли?
– Так! – ответили все в один голос.
– А так, – обратился государь к Самарину, – то вам надлежит, господин генерал, немедля собрать сколько возможно дворян для запасу в офицеры. Кои укроются – нещадно взыскивать при поимке, дабы неповадно было другим. Да не худо бы подкинуть дворянам на подмогу тысячу человек людей боярских, испытанных в верности. Вот и всё покудова.
Пётр взялся за шляпу. Взгляд его упал на отложенную в сторону бумагу. Он склонился над ней. Тотчас же лицо его вытянулось.
– Ка-ак! – заорал он. – Сызнова казнокрадство! – И сунул Ягужинскому в руку перо: – Пиши именной указ! Пропиши им, ворам, что ежели кто и на столько украдёт, что можно купить верёвку, то будет повешен!
– Государь, – скорбно потупился Ягужинский, – неужели вы хотите остаться царём без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем лишь различием, что один больше и приметнее, чем другой.
Такая откровенность вначале ошеломила, а потом рассмешила государя.
– Ладно, ужо поговорим. Теперь некогда, – махнул он рукой и поспешно удалился.
У Якова Игнатьева, духовника царевича Алексея, позднею ночью собрались князья Фёдор Щербатов[302], Василий Долгорукий, Львов, дьяк Фёдор Воронов и Авраам Лопухин[303].
– И в Казани, и в Нижнем, и всюду… Эх, всюду восстал против царя народ, – вдохновенно рассказывал Воронов.
Его слушали затаив дыхание, а когда он клятвенно подтвердил, что «повсеместно токмо и молятся, как бы скорее узреть на царском столе Алексея», Лопухин и Игнатьев даже всхлипнули. Только Долгорукий был всё время сдержан и как будто не разделял общей радости.
– Выходит, – спросил он, – одна голытьба идёт воевать Москву?
– Почитай что так, – подтвердил Воронов. – Споначалу и посадские, и иная мелкота увязалась за бунтарями, а погодя кое-кто из бояр к ватаге гонцов снарядил. Обчее, мол, дело, мы не менее вашего знать Петра не хотим. Всё, дескать, дадим: и воинов, и казну.
– А ватаги что ответствовали?
– Прогнали гонцов. Припомнили им и царевну Софью, и Милославских, и Хованского-князя. Дескать, учёны, не раз обманы терпели боярские.
– Вот так утешил! – сердито буркнул Игнатьев.
– Пусти токмо без узды смердов, – добавил Щербатов, – всех нас изрубят.
Гости ушли точно прибитые. А следующим утром князь Долгорукий отправился к начальнику дворянских полков князю Михаилу Ромодановскому и выложил немалую сумму на борьбу с бунтарями.
Подступы к Москве были заняты сильными отрядами дружинников. Все – и вельможи, и бояре, и купчины, и духовенство, – позабыв о распрях, восстали как один человек против надвигавшихся вольниц. Раскольничьи «пророки», так недавно ещё вещавшие гибель всякому, кто станет на защиту «обасурманившегося» царя, узнав, что ватаги отказались якшаться с боярами, вдруг резко переменились и, бия себя в грудь, клятвенно утверждали, что к Москве «шествуют не станичники, а ряженные под голытьбу турки и шведы».