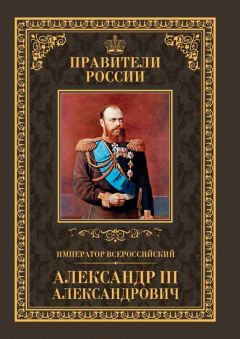– Ваше Величество, разрешите пойти к аппарату Юза для переговоров с Родзянкой? – спросил он почти нормальным голосом.
Государь ещё яснее понял, что вокруг него ведётся грязная интрига.
– Пожалуйста… – бесстрастно ответил он.
Через пару минут, шаркая калошами, Рузский устремился от царского вагона к своему авто. Перед тем как вызвать к аппарату Председателя Государственной думы, генерал продиктовал юзисту сообщение для уполномоченного Красного Креста по Северному фронту князя Вяземского:
«Ловушка захлопнулась…»
Царский вагон стоял тихо, с полупритушенными огнями, у ярко освещённого пустынного перрона. Зато свитский, рядом с ним, гудел как потревоженный улей. Там ждали, что генерал Рузский зайдёт к ним после разговора с Государем, но Главкосев не исполнил обещания, а отправился сразу к своему мотору.
Воейков, который, может быть, что-то слышал, вёл себя в соответствии со своим убеждением, что он должен знать всё, а остальные свитские – ничего. Теперь надутый Воейков сидел молча в одном углу салона, а в другом кипели страсти вокруг адмирала Нилова, который, возбуждённо размахивая своей сигарой, в крепких выражениях комментировал наглое высказывание Рузского о необходимости «сдаваться на милость победителя».
Адресат его проклятий в это время сидел у аппарата Юза и ждал, когда в дом военного министра на Мойке, 67, куда сходились провода из Ставки и всех штабов фронтов, приедет вызванный для переговоров Родзянко. Воспользовавшись паузой, Рузский размышлял о том, как могут отразиться на ходе событий успешные карательные действия группы генерала Иванова в окрестностях Петрограда и в самой столице. Он знал, что Николай Иудович усмирял бунтующие части по дороге к Царскому Селу одним своим появлением. Не отдавая виновных под военно-полевой суд и милуя их таким образом, бородатый и страхолюдный генерал орал на них густым басом: «На колени!» Солдатики выполняли его команду, прекращая свои митинги и сходки. Подполковник Капустин, поставленный заговорщиками начальником штаба группы Иванова, пока только информировал своих хозяев о каждом шаге Николая Иудовича, но вмешаться в ход событий не сумел. Ему требовалась срочная поддержка из Ставки и штаба Северного фронта, поскольку эшелоны с кавалерией и пехотой, назначенные из ближайшей 5-й армии на усмирение Петрограда, уже пошли, а на Западном фронте – грузились в вагоны.
Главкосев имел информацию о том, что эшелон с Георгиевским батальоном и вагоном генерал-адъютанта Иванова стоял на пороге Царского Села и был готов начинать разгрузку. Даже простое соединение этого батальона отборных храбрецов с частями в Царском Селе, оставшимися верными царю, не говоря о скором прибытии на станцию Александровская четырёх боевых полков с Северного и Западного фронтов, их наступление на Петроград грозило полным крахом всего заговора.
Ничтоже сумняшеся, хитрый и злобный Рузский решил на свой страх и риск послать от имени Государя Иванову телеграмму: «Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не принимать».
«Кто не верит, что это сам Государь распорядился, пусть проверит!.. А я всегда могу сослаться на то, что мне сказал это сам царь во время разговора с ним…» – нашёл себе оправдание генерал-предатель.
Одновременно, по приказу Главкосева, его начальник штаба Данилов по телеграфу передал в армии своего фронта команду прекратить отправку войск в подкрепление группе генерала Иванова, а уже отправленные эшелоны вернуть обратно в Двинский район. Рузский убедился, что его опасения были явно не беспочвенны, а ход мыслей таков же, как и у его сообщников в Ставке: практически одновременно, с грифом «только для личного сведения», он получил по телеграфу копию предписания Алексеева, также от имени Государя, которое было послано из Могилёва на Западный фронт: «Уже отправленные части задержать на больших станциях, остальных – не грузить…»
После того как генерал Рузский ушёл от него на переговоры Родзянкой по проводу Юза, Николай вернулся в кабинет и зажёг настольную лампу. Её белый стеклянный абажур наполнился сильным электрическим светом и больно ударил по усталым глазам. Государь выключил лампу и включил бра над часами и барометром. Он опустился в кресло и откинулся на мягкую спинку.
«Не совершил ли я непоправимую ошибку, подписав изготовленный в Ставке Манифест?! – застучало у него в висках. – И Рузский, оказывается, тоже в сговоре с изменниками… Как слаженно они действуют!.. Из этой паутины будет очень трудно вырваться… Пожалуй, только ценой гражданской войны… Но если я теперь ясно вижу, кто стоит за предателями, то пока мне не совсем ясно, на кого я могу рассчитывать… Наверное, большинство солдат и офицеров в действующей армии будут всё-таки за меня, но как мне их узнать?.. Как прорвать фронт генералов, начисто изолировавших меня от любящих меня и оставшихся верными полков?.. Может быть, когда приедет Родзянко для переговоров, вырваться вместе с ним отсюда и посмотреть на воле, кто не предал меня?.. Конечно, в Ставку ехать нельзя, они могут снова запереть меня там… Но с другой стороны, где, как не в Могилёве, я лучше всего смогу узнать, кто на моей стороне? Неужели все офицеры в Ставке предатели?! Не верю!.. Нет!..» Он даже отрицательно покачал головой, словно вёл диалог с невидимым собеседником.
«Заговорщикам будет мало ответственного перед Думой правительства… – вдруг пришло на ум Николаю. – Они потому и давят так сильно, что не уверены в своих силах и боятся, что я встречусь с народом и армией… Они будут избегать честного поединка со мной, если я смогу вырваться отсюда, из их сетей, и поэтому их главная цель – моё отречение от престола… Алексеев, хитрая бестия, зная, что я не допущу, чтобы лилась русская кровь, пугает меня гражданской войной… Возможно, он и прав – даже маленькая стычка, например, моего Конвоя, если я отдам ему такой приказ, с любой воинской частью, предводительствуемой изменниками, кончится кровопролитием, большим или малым, и это может стать началом гражданской войны… Мне не страшно умереть самому ради блага России… Но если я сейчас прикажу расстрелять на месте предателя Рузского, то приму на душу его кровь, совершу тяжкий грех!.. Люди, солдаты, будут называть меня убийцей… Гражданская Война во время Большой войны?! Нет!.. Это невозможно!.. Скорее я соглашусь стать искупительной жертвой предательства и обмана, отрекусь от трона, пойду на фронт простым полковником в действующую армию, если мне станет ясно, что это надо сделать для блага России, чем развяжу братоубийственную войну!»
Николай принял решение. Но не было сил идти в соседний вагон и лечь на кровать. Тяжёлый сон, как чёрная туча, навалился на него, сморил на несколько часов, но не дал отдохновения.
Предвидение Государя о возрастании требований изменников оказалось точным. Несмотря на то что 1 марта волнения в Петрограде несколько стихли и в Ставку Алексееву пришла неведомо кем посланная телеграмма о том, что в столице всё успокоилось, у заговорщиков и в столице и в Могилёве от радости кружилась голова и хотелось ковать железо, пока оно было горячо, ссылаясь на беспорядки. Поэтому Родзянко нагнетал истерию, не забывая при этом выдавать себя за первого борца с бунтовщиками и главного спасителя Отечества. Его уже не устраивала роль премьера правительства в конституционной монархии, с умным и упорным в достижении своих целей Николаем Александровичем во главе государства, а хотелось править при больном двенадцатилетнем Императоре Алексее Николаевиче и безвольном регенте Михаиле Александровиче.
Может быть, если повезёт, казалось ему, просвечивала и дальнейшая перспектива: стать выше монарха – президентом дворянской республики с диктаторскими полномочиями…
Амбиции заменяли Родзянке ум и совесть. Подталкиваемый в спину теми силами, которые вышли из подполья и сразу заняли в думских коридорах власти господствующее положение, он так и не понял, что стал для Совета рабочих депутатов только тараном для обрушения монархии и России…
…В шесть часов утра Николай снова был на ногах. Он принял ванну в своём вагоне-опочивальне, механически повертелся на турнике, но напряжение всех мышц и горячий душ после него не сняли окостенения мыслей и чувств, пришедшего в бессонные ночные часы, которым природа предохраняла его от нервного срыва. Два часа он перебирал бумаги в ящиках своего стола, не в силах углубиться в них, достал папку с письмами Аликс, но острая жалость к жене и стыд за себя не позволили ему открыть её и перечитать послания жены – только теперь он понял, насколько умнее, решительнее и дальновиднее его была она, когда умоляла своевременно принимать жёсткие меры против гучковых, родзянок, алексеевых… Нетерпимо было сознавать, что своим мягкодушием он предал Россию, Семью и Себя…