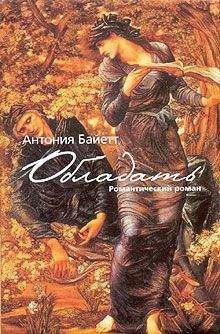Вкус на обложенном языке был невыносимо ярок. Ложку за ложкой Гедда заглотала все, что было в баночке. Вошла женщина и сказала — в ее голосе Гедде почудилось презрение:
— Вот это тебе пойдет на пользу, наконец-то ты сделала хоть что-то разумное.
Гедда рыдала, ее рвало, ее снова шлепали. Теперь она знала, что опозорилась и что нельзя было нарушать голодовку. Она ходила, в нее вливали отвратительное пойло, она извергала его и снова ходила. Если держать воронку выше или ниже, чем надо, кормление причиняет боль и вызывает удушье, поскольку еда попадает в не предназначенные для нее места.
Гедду выпустили в июле по «Акту кошки и мышки» для поправки здоровья, чтобы затем посадить снова, уже без опасности для жизни.
Гедду встречала группа женщин. Несколько суфражисток, которые знали все о том, как мыть, выхаживать и медленно откармливать выздоравливающих мучениц. И сестра. Доктор Дороти Уэллвуд старалась не показывать своего ужаса при виде потрескавшихся губ, налитых кровью глаз и острых костей, едва ли не протыкающих кожу.
— Ты себя чуть не убила, — сказала Дороти. — Мы должны привести тебя в порядок.
Гедда что-то бормотала о мясном желе.
— Ты хочешь мясного желе? — спросила Дороти.
Гедда зарыдала. И сказала, что Дороти не поймет.
— Я все испортила.
— Испортила бы, если бы умерла. А уж я позабочусь, чтобы этого не случилось.
В мае 1914 года Дягилев привез на триумфальный сезон в театр «Друри-лейн» русский балет на музыку Рихарда Штрауса. Они давали «Ивана Грозного» и «Иосифа» Штрауса. Руперт Брук пошел смотреть; и все блумсберийцы тоже; и Ансельм Штерн с сыновьями и Штейнингом. Последнее представление, 25 июля, было двойное: показали разом «Иосифа» и «Петрушку», балет, который кончается трагической смертью живой куклы. В тот вечер австрийский посол не принял ответа сербов на свой ультиматум и отбыл домой. Штерны тоже отправились домой. «Лучше проявить осторожность, — сказал Ансельм. — Назревает конфликт».
31 июля Германия послала ультиматум России, объявила Kriegsgefahr, угрозу войны, и начала мобилизацию мужчин. Социалисты всего мира сплотились вокруг Жана Жореса, который все еще надеялся на всемирное антивоенное восстание трудящихся. В тот вечер Жорес ужинал в «Кафе Круассан» на Монмартре, и молодой человек, до того следивший за ним весь день, застрелил его из пистолета. Жорес умер через пять минут. 1 августа, в день, когда стало известно о его смерти, была мобилизована французская армия.
Лондонский Сити, обеспокоенный возможными последствиями для рынка золота, послал делегацию к Ллойд Джорджу с сообщением, что «финансовые и торговые круги лондонского Сити всецело против участия Британии в войне». Никто не ожидал войны. Никто не был к ней готов. Финансисты верили: в мире действуют финансовые и экономические силы, и он устроен таким образом, что политические силы подчинены экономическим структурам, нацеленным на процветание и рост. Ллойд Джордж заметил: «Испуганные финансисты — зрелище отнюдь не героическое. Однако будем снисходительны к людям, которые были миллионерами с кредитом прочнее земного шара, опоясанного их владениями, и вдруг обнаружили, что их будущее разнесено на куски бомбой, брошенной наугад безрассудной рукой». Журнал «Экономист» советовал сохранять строгий нейтралитет. Ссоры на континенте «должны заботить нас не более, чем конфликт Аргентины и Бразилии или Китая и Японии».
Саки, автор стольких рассказов о диких и безответственных детях, попирающих респектабельность в английских садах, лесах и свинарниках, написал «Когда пришел Вильгельм» — мрачно-сатирическую повесть о том, как английское общество успешно приспосабливается к правлению Гогенцоллерна. Кульминацией сюжета был запланированный парад бойскаутов: они должны были пройти церемониальным маршем мимо немецкого императора и памятника его бабушке перед Букингемским дворцом. Император ждал. Ждал. Но марширующих детей под реющими флагами все не было видно. Английским мальчикам была небезразлична честь Англии. Непослушных детей не так просто подчинить.
Генерал-полковник фон Мольтке был начальником генштаба действующей армии Германской империи. Мольтке пытался отказаться от этой должности: ему было шестьдесят шесть лет; он думал, что совсем не похож на своего дядю, великого полководца: слишком осторожен, склонен к рефлексии, слишком щепетилен и в целом не способен быстро принимать решения, от которых зависят миллионы жизней и судьба его страны. Но кайзер не прислушался к его желаниям. Фон Мольтке пойдет по стопам дяди. Он будет руководить разработкой плана Шлиффена, согласно которому немецкая армия должна была войти в Люксембург и Бельгию, захватить их железные дороги, чтобы атаковать с севера и окружить Париж с запада. Мольтке делал что должно, перемещая войска и поезда.
1 августа 1914 года его внезапно вызвали в берлинский Городской дворец на совещание с кайзером, министрами и генералами. Те торжествовали. Кайзер приказал подать шампанского. Мольтке сообщили: сэр Эдвард Грей обещал немецкому послу в Лондоне, что Великобритания гарантирует неучастие Франции в войне, если Германия пообещает не нападать на Францию. Кайзер в полном восторге, с облегчением сказал фон Мольтке, что теперь им придется воевать только с Россией. Можно выдвигать армии на восток.
Фон Мольтке попытался объяснить, что миллион человек, одиннадцать тысяч поездов, тонны боеприпасов, пушек, провианта уже в пути и движутся на запад; передовые отряды уже достигли Люксембурга; за ними идут полки. Кайзер выругал Мольтке и с детской обидой сказал, что его дядя, великий полководец, дал бы иной ответ. Фон Мольтке «может ведь воспользоваться какой-нибудь другой железной дорогой».
Мольтке был унижен. Он писал, что у него в душе что-то сломалось от осознания всего невежества и легкомыслия своего повелителя, его детской неспособности реалистически смотреть на мир. «Я так и не оправился от этого происшествия, — писал он. — Я так и не стал прежним».
Время было упущено; кайзер отменил приказы; отчаявшийся фон Мольтке сидел у себя в кабинете и отказывался подписывать новые. Потом, в одиннадцать часов вечера, Мольтке вызвали в личные апартаменты кайзера, где глава государства сидел полуодетый, прикрыв плащом иссохшую руку. Он протянул фон Мольтке телеграмму от Георга V. Немецкий посол ошибся. Британия не гарантировала нейтралитета Франции.
— Теперь можете делать что хотите, — сказал кайзер своему военачальнику.
И армии двинулись.
Кое-кто сразу записался добровольцем. Джулиан поступил в отцовский полк и был отправлен в Саффолк, в учебный лагерь для офицеров. Он хорошо управлялся с пушками и неплохо ездил верхом. Светило солнце. Джулиан познакомился с другим кембриджцем. Джулиана переполняла ярость, потому что враги грозили предмету его изучения — английской пасторали, полям и лесам, диким тварям, коровам, овцам, в какой-то степени пастухам, сбору урожая. Говорили, что все кончится к Рождеству. Джулиан был настроен иронически: он верил в долг, но не в славу, и считал, что должен идти не колеблясь до обещанного конца. Подчиненные ему нравились: он должен был их любить по долгу службы и действительно любил. Когда их что-то беспокоило, он это замечал, а когда у них что-то получалось хорошо, он говорил им об этом. В 1915 году он отплыл во Францию.
Герант вернулся в Лидд и стал учиться на артиллериста в лагере, стоявшем на такой знакомой гальке. Герант записался рядовым, но потом стал капралом артиллерии. Колечко, некогда подаренное Флоренции, он носил в кармане. Он думал: когда все это кончится, все станет другим, в том числе и он. Океанский круиз под звездным небом растаял, как дым. В первые дни войны Герант, как и Джулиан, словно бы видел все окружающее яснее именно потому, что оно было поставлено под вопрос. Во взводе он обзавелся дружками-собутыльниками; с одним, Сэмми Тиллом, сыном рыботорговца, они еще мальчишками вместе бегали на Ромнейском болоте. В 1915 году Герант пересек Ла-Манш и отправился на северо-запад, в сторону Бельгии.
Флориан и Робин Уэллвуды и Робин Оукшотт поступили в Королевский Сассекский полк. Флориана вскоре услали во Францию. Оба Робина попали в один взвод. Они сидели среди снаряжения в обшей палатке. В детстве они всегда все делали вместе, или почти вместе, в разных художественных лагерях. Они были одинаково рыжие и одинаково улыбались. Слишком хорошее воспитание мешало им выяснить, не братья ли они.
Робин Уэллвуд думал, что Робина Оукшотта заденет и оскорбит предположение, что никакого отца по фамилии Оукшотт не бывало на свете. Робин Оукшотт думал, что смутит Робина Уэллвуда своими претензиями на родство, которое никем никогда не упоминалось. Обоим было неприятно думать о роли Хамфри Уэллвуда в их появлении на свет. Даже при обычном раскладе люди не любят думать о том, чем занимались их родители в постели. Но Робины держались вместе, все делали одинаково и привыкли полагаться друг на друга.