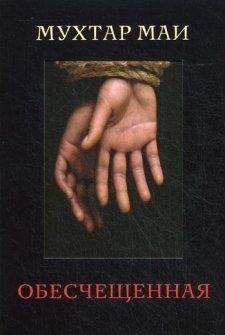Абай со вздохом подумал: «Благословен народ, просветленный знанием!.. Если б и нам, казахам, предки оставили золотой клад знаний и просвещения!..» Оба поэта представляются ему такими близкими друг другу, родными: «Это — братья, вся жизнь которых—ярко пылающий, неугасимый факел для последующих поколений, для всех носителей мысли среди всех народов и всех времен…»
С глубоким вздохом Абай вновь склонился над письмом Татьяны. «Какие искусные слова! Не слова — дыхание, трепетное биение сердца… Нежная глубина!» — подумал он с восхищением и неожиданно вспомнил сложенные им когда-то стихи:
Речь влюбленных не знает слов.
У любви язык таков:
Дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза —
Вопрос иль ответ готов.
Помню, так и я говорил,
И мне понятен он был —
Тот язык, но память сдала.
Теперь я его забыл..
Покоренный волнением Татьяны, он снова вчитывался в пушкинские строки. «Такие дни прошли для меня, — думал он, — да и в те дни — слышал ли я подобный голос?..»
И тотчас, прорезав мрак его памяти, как падающие звезды прорезают темный небосвод, перед его глазами промчались два светлых облика. Один — лик сияющей юности, Тогжан; второй, полный душевной тоски, — Салтанат. Еще вчера, переводя письмо Татьяны, он вспоминал их. Обе, подобно самой Татьяне, подавили разумом голос сердца, обе не смогли поднять голов, опутанных уздою неволи. И все время, пока Абай переводил грустные излияния Татьяны, в его сердце приглушенно звучали и их прощальные слова. Сами собой они находили себе место в слагаемых им строках.
«Пусть их чуткие сердца вникнут в эту песню, они поймут ее как свою», — думалось ему.
Поэтому-то он и решил перевести письмо Татьяны. Последние два дня он помогал ей заговорить на чужом ей казахском языке. Чем дальше, тем больше слов находит его Татьяна в мягком, побеждающе-нежном напеве. Все благороднее в своей грусти, все красноречивее становилась эта девушка, покорившая его. Он сравнивает казахское письмо Татьяны с письмом, написанным по-русски. Порой не так, как у Пушкина: Татьяна говорит иногда слишком обычными словами. Но это — невольная дань ее новым слушателям… Да и то — поймут ли они ее? Он подумал о Кокпае и Муха: что, если и они не поймут этих слов?
В страницы «Евгения Онегина» было вложено полученное вчера письмо. Баймагамбет, вернувшись из Семипалатинска, привез его Абаю вместе с десятком новых книг, отвечая на восторженное восхищение Абая «Евгением Онегиным», Михайлов писал: «Недавно роман этот переложен на музыку. Говорят, она достойна пушкинской Татьяны и Ленского, петербургская и московская публика живет и дышит ею. Но что делать — нам не судьба услышать ее…»
Перечитывая это, Абай вспомнил о Кокпае и Муха.
«А они, бедняги, красивым пением украшают вздорные стихи, — усмехнулся он и взял стоявшую возле домбру. — Я дам этим мелочным торговцам вместо бязи дорогие шелка…»
И снова шепчут его губы какие-то слова, а смягченный взор все чаще устремляется к двум вершинам Акшокы. Но сейчас этот взор не видит окружающего. Это взор мысли. Взор глубоко взволнованной души поэта. Пальцы торопливо перебирают струны. В прошлую ночь, ложась спать, он смутно улавливал отдаленно звучавшие и гаснувшие звуки, а сейчас так быстро пришли они в его память и так легко начали ложиться в струны его домбры. Он попробовал тихо, но внятно вторить им голосом. Размер близок пушкинскому.
Ты — мой супруг любимый,
Богом указанный мне…
Стыдливая тайна Татьяны еще робко, еще неуверенно начинает звучать в напеве домбры. Еще строка… Еще…
То облокотясь на подушку, то откидываясь от нее, он торопливо понукает домбру. Парные струны тихо рокочут, порой лишь резкий звук выходит за нужный, уже отысканный предел. Дорого достались две последние строки, но и они стали в лад с музыкой.
Абай без перерыва спел на найденный напев три строфы письма Татьяны. Довольно улыбнувшись, он выбросил из-за губы насыбай и заложил тут же новую щепотку. То громко, то тихо перебирает он струны. Как будто запомнил…
Вдруг он круто повернулся всем своим массивным телом в сторону Баймагамбета. Глаза его на этот раз сверкнули весело и задорно и тут же мягко потухли.
— Ну, что ты тут сидишь? Понял ты что-нибудь? Растерявшийся от неожиданного вопроса Абая, жигит показал плетку:
— Починяю вот, Абай-ага!..
— А что я делаю — не догадался?
— Думаю, вспомнаете какую-то русскую песню…
— Вон как… Ну что ж, и то хорошо! — рассмеялся Абай. — Ступай позови Кишкене-муллу.
И, чтобы не забыть только что созданного им напева, он заиграл его снова. Но едва Баймагамбет открыл дверь, Абай увидел входящую Айгерим, а за ней — приезжих. В руках у них плетки, лица покраснели с холода; люди — в овчинных тулупах, в чекменях, в стеганых халатах, у двоих покрой шапки шестиклинный, узковерхий — племени Уак. Абай, все еще продолжая перебирать струны домбры, поморщился:
— Фу, какой мороз ворвался… Айгерим удивилась:
— Какой мороз, Абай! На улице и сало не застынет!..
— Показалось — мороз, оказывается — люди, — ответил Абай и поздоровался с приезжими. Айгерим приняла его ответ как один из непонятных для нее за последнее время поступков и, не ответив, прошла в соседнюю комнату. Оттуда вышел Кишкене-мулла. Абай быстро взглянул на него:
— Мулла-аке, вы переписали письмо Татьяны? Она наконец, решилась запеть…
— Хорошо придумала… Письмо переписано.
— Напишите Кокпаю и Муха! Скажите, им шлет привет Татьяна и хочет, чтобы они были знакомы с ней… Мухамеджан едет в город, он отвезет им голос ее привета…
Приезжие не поняли, о чем идет речь, но по виду их было ясно, что это их никак не занимает. Слова Абая настороженно слушал только Мухамеджан — молодой, румяный, сероглазый жигит, вошедший вместе с Кишкене-муллой.
Мухамеджан и в самом деле ехал в город. Так же как Муха и Кокпай, он был одним из лучших в округе певцов, кроме того, он и сам изредка слагал стихи. Он нетерпеливо спросил:
— Кто же это решился петь, Абай-ага?
Вместо ответа Абай взял домбру и спел ему три строфы «Письма Татьяны» и потом, не вступая с ним в разговор, отложил домбру и обратился к приезжим с расспросами.
Не уловив с одного раза напева, Мухамеджан обратил внимание на слова новой песни. Среди всей молодежи окрестности Мухамеджан одним из первых узнавал и заучивал новые стихи и песни Абая. Но этой песни он еще не знал и нигде раньше не слышал. По-видимому, не знают ее ни Кокпай, ни Муха. Тут он сообразил, что Абай поручил ему заучить и довести до них только что написанную песню.
Хотя Мухамеджан и приходился близким родственником Абаю, но, будучи гораздо моложе его, не смел попросить Абая спеть еще раз. Кроме того, он отлично знал, что Абай не любит приставаний. Поэтому, решив остаться в Акшокы пообедать, он тут же пошел к Кишкене-мулле переписывать новые стихи Абая.
Абай уже занялся приезжими.
Задавая им обычные вопросы о здоровье и благосостоянии аулов, Абай был странно поражен только теперь замеченным обстоятельством. Он вспомнил, что не так давно видел уже у себя этих двоих уаков и этого же кокше в таких же одеяниях, буквально с таким же выражением лиц. И этот конокрад из рода Кокше, Турсун, сидел так же скромно, молчаливо, с опущенной головой, как бы задремав. А этот истец Сарсеке из Уака, низкий и тучный, тогда так же пыхтел, широко рассевшись, и так же, как теперь, требовал у Турсуна возвращения украденного скота. Но тогда ведь он получил возмещение за своих коней?
Жизнь так быстра, так изменчива, — почему же этим выходцам из различных родов суждено так нудно и серо оставаться неизменными? Которая из этих двух картин — сон?.. Тогда или теперь?.. Глядя на этих людей, можно подумать, что время не шло, а застыло…
Так двоились мысли Абая, пока он слушал Сарсеке. Голос того звучал монотонно, как пест и ступа, сделанные из дерева. Наконец Абай услышал что-то новое:
— Вот что думал этот вор, Абай-ага: «Тогда ты так и не дал мне присвоить тот скот. Привел к Абаю и заставил срыгнуть обратно. Так я ж тебе еще насолю!» — вот что он думал. И решил, что, если он снова украдет у уака, ничего не случится. Назло украл!.. В тот раз угнал трех коней, а теперь угнал целых пять голов… Ну разве это не дело рук мстительного вора, Абай-ага?
Абай понял эту новую тяжбу. Он хотел разгадать правду по лицу конокрада, но тот сидел, наклонив голову в длинношерстой рыжей шапке с крепко завязанными наушниками, показывая только кончик толстого носа и часть редкой черной бороды. Исподлобья следя за каждым движением Абая, он сидел молчаливый и недвижный, словно каменное изваяние.
В спор, затеянный Сарсеке, он еще не вмешался ни единым звуком, слушая, как посторонний разговор, и показывая всем своим видом, что заставить его заговорить может только Абай, а Сарсеке никогда не сдвинет его с места. Хочет ли он выразить этим свое уважение к Абаю, как к большому бию, или же он хочет оставаться неуязвимым для истца?