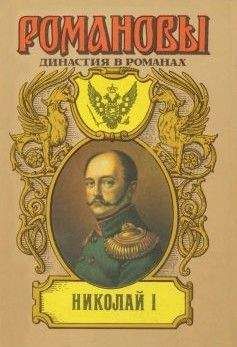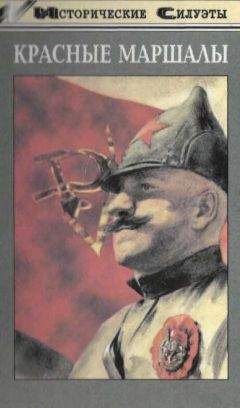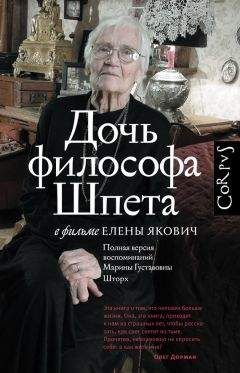— А и силищи в тебе, Мишель, какие-то непомерные, право, — рассмеялся и грустно и весело Герцен, — словно Этна Ниагаровна какая-то иль трёхполенная революционная Жанна д'Арк, одна против англичан. С твоей-то бы, брат, силищей да страстью действий тебе бы вместо революций да катнуть в Америку, богачом бы стал!
— Э-э-э, — отмахнулся Бакунин, — в Америку. Там, брат, скука чертовская.
— Ну, стало быть, назовём тебя «Колумбом без Америки»!
Запряжённый четвёркой дрянной дилижанс, поскрипывая, проехал ровной рысью ворота Клиши; помахивала четвёрка вороных лошадей стрижеными хвостами. Когда кругом пошли однообразные поля, над дилижансом пролетела разорванной тучей стая галок. Укачиваемый в старом дилижансе, Бакунин курил, разговаривая сам с собой: «Куда едешь? — Бунтовать. — Против кого? — Против Николая. — Как? — Ещё хорошо не знаю. — Куда ж ты едешь? — В Познанское герцогство. — Почему туда? — Слышал от поляков, теперь там больше жизни, движения, и оттуда легче действовать. — Какие у тебя средства? — Никаких, авось найду. — Есть знакомые и связи? — Исключая некоторых молодых людей, которых встречал в Берлинском университете, никого. — Рекомендательные письма? — Нет. — Как же ты, без средств и один, хочешь бороться с русским царём? — Со мной революция, и в Познани я выйду из одиночества. — Но поляки одни не в состоянии бороться с русской силой. — Одни нет, но в соединении с другими славянами — да, особенно если удастся увлечь русских в Царстве Польском. — На чём же основаны твои надежды, есть у тебя связи с русскими, иль ты идёшь как угорелый на явную гибель? — Связей никаких, надеюсь на могучий дух революции, овладевший всем миром…»
Стлался разнобой копыт; лошади везли дилижанс по блёсткой, в колеях, дороге; старик почтальон дремал на козлах, ездил тридцать лет дорогой на Страсбург.
Сколько фельдъегерей, гофкурьеров неслось по Европе, к границам России, к кабинету императора Николая; из Вены, Дрездена, Берлина, Италии, Богемии, Швейцарии, Венгрии на перекладных шестериках, на ямских тройках мчали изустные доклады, письма королей, бумаги министров. Сколько пало коней в пути, сколько зуботычин надавали пьяным ямщикам станционные смотрители, натерпевшись страху царских приказов. Да и гофкурьеры хватили перелягу, выкатывая с звоном колокольцев на Дворцовую площадь, представая перед русским императором. Знали: кроме Бога стоит ещё одна только сила, не сломанная европейским неистовством, — царь Николай. Но невероятно раздражителен, гневен, не спит ночей. А ночи в Петербурге белые, как пятичасовые сумерки.
В золотой пустыне дворца, с заложенной за борт рукой, потупив рыжеватую, с лысиной, голову, взволнованными шагами ходил император. Николай переживал самое страшное: воля казалась не всесильной. В Вене — диктаторство каналий, бегство князя Меттерниха, разгром дворца на Баль-пляц, буйства, столкновения с войсками эрцгерцога Альбрехта[82]; бегство слабовольного императора в Инсбрук и полная отдача города в руки взбесившейся черни под главенством попа Фюстера[83]! Бург, где танцевал с эрцгерцогиней Софией, захвачен толпой, и надпись. «Здесь не осталось ни капли вина!», в Шарлоттенбурге, на дворце, где сватал жену, где говорил шефским бранденбургским кирасирам: «Помните, друзья, что я ваш соотечественник и, как вы, вхожу в состав армии вашего короля», — надпись: «Национальная собственность». Хаос и вертеп; бессилие и трусость, волнения в Неаполе; герцоги Пармский и Моденский бежали; Венеция — «Республика Св. Марка». Не чернь — императоры, короли генералы, министры, вот кто вызывал гнев шагов железного человека в военном мундире. Николай бормотал: «Трусость, ни в одном нет силы кровью защищать Богом вручённые страны! Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в неё, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я милостью Божьей император!»
По ночам приходили ощущения, как болезнь, охватывало волнение, разливалась пустота в сердце и немели ноги. Откинув шинель, Николай с трудом поднимался на походной кровати; сидел в темноте, спустив длинные ноги на шкуру медведя. Было жаль, что умер Бенкендорф в своём эстляндском имении. Орлов ленив, проспит; убили же во дворце кулаком деда, удушили шарфом отца…
Вместо простудившегося графа Орлова на высочайший доклад прибыл умный генерал тёмного происхождения, Дубельт[84]. Николай читал письмо от Орлова, хмурясь. «Ваше Величество! К сожалению моему, не могу быть с докладом, потому что горло болит и кашель сильный продолжается, но надеюсь завтра или послезавтра поправиться. Между тем, слава Богу, всё смирно, и пустых толков никаких нет, как в городе, так и в окрестностях».
Исхудалое, в светлых усах лицо у генерала Дубельта; на лбу, щеках по-бенкендорфовски глубокие рытвины, но лицо много хитрей и уклончивей.
— Докладывай.
Дубельт зачитал певучим упорным баритоном, докладывал сводку заграничных агентов из Франции, цитировал донесения парижского агента Якова Толстого; доложил о Вене; Николай не перебивал, глядел в стену. Но когда в германском докладе Дубельт прочёл, что поступили полицейские сведения о появлении снова в Пруссии отставного прапорщика Бакунина, направившегося на границу с Польшей, откуда доносят о связях его с польскими мятежниками, Николай ударил кулаком по ручке кресла, потемнел и гневно встал в рост. Дубельт остановился.
— Просят помощи, а сами до сих пор не могут схватить этого мошенника!
Тёмен стоял Николай. Дубельт проговорил негромко:
— Если б в Пруссии был покойный король, мы б давно имели преступника.
Дубельт докладывал о Богемии:
«..о средоточии поляков, после поражения восстания в Познани, теперь в Саксонии и в Праге получены данные, что якобы в противовес Франкфуртскому собранию собирается в Богемии славянский конгресс, имеющий на самом деле скрытые революционные цели. Среди съезжающихся есть головы, мечтающие о новом подъёме Польши к повсеместному восстанию. Как доносят, завязаны преступные связи с сербами, черногорцами, хорватами и русинами. Из русских возможно появление на съезде названного преступника, отставного прапорщика Бакунина. От съезда этого ждать во всяком случае надо многих опасностей, хоть и господствует в головах депутатов путаница. Есть донесения, что у некоторых существует даже безумная и преступная идея о том, что якобы можно надеяться при всеобщем славянском восстании на то, что Ваше Величество принуждены будете, подобно другим сдавшимся революции монархам, встать во главе всеобщего славянского движения…»
— Что?! — вскрикнул Николай. Дубельт оборвал. Николай захохотал.
— Я?! В роли славянского Мазаниело?! Так, что ли?!
Дубельт улыбнулся в светлые усы.
— Вот это ловко! Развеселил! Да какой же это дурак прочит меня в голову славянской революции?
Николай гневно смеялся; сидел в мундирном сюртуке нараспашку, без эполет; закидывая большую ногу на ногу, сказал:
— Знаешь, кто Мазаниело был? Один злосчастный неаполитанский рыбак, предводитель восстания в семнадцатом веке, сначала боготворили его бунтовщики, а потом убили, а похоронили снова с исключительными почестями, как героя. Вот и они хотят, чтоб я голову под топор положил, хотя бы и славянский… сволочь! — ненавистно пробормотал Николай. — Медему немедля пошлёшь[85], войдя в согласование с Нессельроде, все данные об этих происках, пусть в Инсбруке заранее знают о кознях и гнусностях. Там теперь, поди, такой хаос вокруг Фердинанда, что святых вон выноси, составь подробный доклад, дай назавтра, я просмотрю, пошли с гофкурьером прямо в Инсбрук к эрцгерцогине Софье, она дельная, с волей, да и князь Виндишгрец при ней, чтоб заранее пресекли авантюру в корне. А то, может, и до них дойдёт, что я поддерживаю разбойников. Ма-за-ни-е-ло?! — захохотал в светлые усы Николай, — так, может, это мой прапорщик Бакунин выдумал? Хотя он знает меня. — После мрачной паузы Николай проговорил сквозь зубы: — За сим извергом приказываю следить неотступно, сам напомню Нессельроде, чтоб при первом же случае схватили негодяя и выдали мне. Закую! Его место давно там! — пробормотал и махнул кулаком на Петропавловскую крепость.
Солнце над золотой Прагой так разгорелось, что словно тают в блеске купола церквей в недрожащем воздухе. Зелены пражские острова, дремлют в голуби неба краснокаменные мосты, башни Вышеграда и Градчина. Рыбьей чешуёй опоясывает гористость города голубая Молдава. Безветрен палящий день. Но что происходит в золотой, расцветившейся цветной ярмаркой Праге? Не воскрес ли Ян Гус? Не вернулись ли времена Жижки?
Смешение чужеземных лиц, пестрота нарядов, беспокойная суета вооружённых течёт по улицам и площадям. Красно-золотые чепраки на конях, вьются ленты, вплетённые в конские гривы. В синих безрукавках с широкой белизной шитых рукавов скачут всадники. Цветут шапочки славянских цветов; перья на шишаках; звенят сабли.