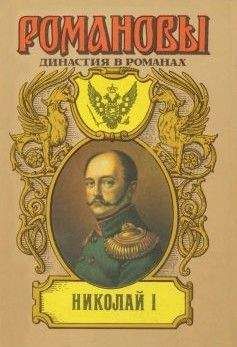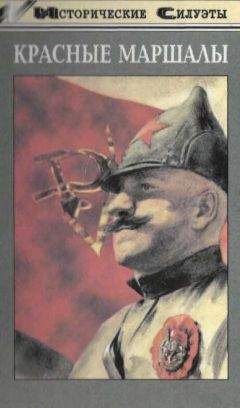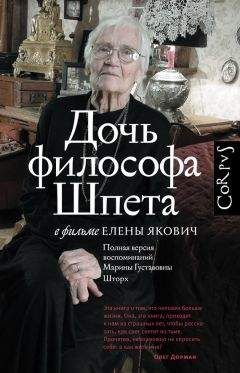— Что?! — вскрикнул Николай. Дубельт оборвал. Николай захохотал.
— Я?! В роли славянского Мазаниело?! Так, что ли?!
Дубельт улыбнулся в светлые усы.
— Вот это ловко! Развеселил! Да какой же это дурак прочит меня в голову славянской революции?
Николай гневно смеялся; сидел в мундирном сюртуке нараспашку, без эполет; закидывая большую ногу на ногу, сказал:
— Знаешь, кто Мазаниело был? Один злосчастный неаполитанский рыбак, предводитель восстания в семнадцатом веке, сначала боготворили его бунтовщики, а потом убили, а похоронили снова с исключительными почестями, как героя. Вот и они хотят, чтоб я голову под топор положил, хотя бы и славянский… сволочь! — ненавистно пробормотал Николай. — Медему немедля пошлёшь[85], войдя в согласование с Нессельроде, все данные об этих происках, пусть в Инсбруке заранее знают о кознях и гнусностях. Там теперь, поди, такой хаос вокруг Фердинанда, что святых вон выноси, составь подробный доклад, дай назавтра, я просмотрю, пошли с гофкурьером прямо в Инсбрук к эрцгерцогине Софье, она дельная, с волей, да и князь Виндишгрец при ней, чтоб заранее пресекли авантюру в корне. А то, может, и до них дойдёт, что я поддерживаю разбойников. Ма-за-ни-е-ло?! — захохотал в светлые усы Николай, — так, может, это мой прапорщик Бакунин выдумал? Хотя он знает меня. — После мрачной паузы Николай проговорил сквозь зубы: — За сим извергом приказываю следить неотступно, сам напомню Нессельроде, чтоб при первом же случае схватили негодяя и выдали мне. Закую! Его место давно там! — пробормотал и махнул кулаком на Петропавловскую крепость.
Солнце над золотой Прагой так разгорелось, что словно тают в блеске купола церквей в недрожащем воздухе. Зелены пражские острова, дремлют в голуби неба краснокаменные мосты, башни Вышеграда и Градчина. Рыбьей чешуёй опоясывает гористость города голубая Молдава. Безветрен палящий день. Но что происходит в золотой, расцветившейся цветной ярмаркой Праге? Не воскрес ли Ян Гус? Не вернулись ли времена Жижки?
Смешение чужеземных лиц, пестрота нарядов, беспокойная суета вооружённых течёт по улицам и площадям. Красно-золотые чепраки на конях, вьются ленты, вплетённые в конские гривы. В синих безрукавках с широкой белизной шитых рукавов скачут всадники. Цветут шапочки славянских цветов; перья на шишаках; звенят сабли.
Смоляной старик, владыка Черногории, въехал в Прагу с загорелыми, бронзовыми, чёрно-бородатыми конниками. Прибыл бан хорватов, на горячих конях с ним двести конных в пестроте национальных костюмов. Парами идут сербы-священники. Колышутся трёхцветные славянские знамёна. Заполнило золотую Прагу славянское беспокойство. От славянских радостных толп боязливо сторонятся немцы и евреи. Ожила славянщина, забилась на Молдаве в золоте дней перед праздником Святой Троицы.
На Конную площадь, к статуе доброго герцога Вацлава едут конные, идут пешие толпы. Под небом, под солнцем поёт тысячный хор. Расплавленным ароматом ладана льётся благолепие греческого песнопения, прекрасна в живописности славянская толпа.
Зачинщики всеславянского съезда, хозяева, чехи в старине гуситских камзолов, члены «Сворности» в цветных шапочках, гремят саблями на боку, члены «Славии» и «Рипиля»[86], студенческий славянский легион в синих плащах с широкими воротами, в стянутых кушаком мундирах, шляпах с вьющимся в ветре пером. Машут платками женщины, сыплют цветы на чешские камзолы, словакские безрукавки, черногорские чекмени, белизну сербских рубах, на кунтуши, свитки, чубы, усы и бороды.
В колясках едут европейцы поляки, в цилиндрах. С балконов кричат «Слава! Слава!» Давно исчезли чёрно-жёлтые флаги Австрии. Веют национальные знамёна славян. Польский отряд познанских бойцов выходит строем на площадь, несётся торжественный хорал «С дымом пожаров».
Течёт по Конной тысячный гул, громогласны дьяконы, в золоте риз возглашая славянству многолетие. Ответно гремит площадь «Многая лета!» — словно не церковным песнопением, а гимном восстания.
Трудно императорско-королевскому командующему войсками фельдмаршалу-лейтенанту князю Альфреду фон Виндишгрецу, хоть и чех он родом. Часто седлают курьеры коней к его апостолическому величеству императору Фердинанду. Безволен увезённый из Вены больной монарх, но князь Виндишгрец знает волю эрцгерцогини Софии. С Софией иезуиты сутаны, бритые гуменцы, нашёптывают в Инсбруке, вьют верёвку. Виндишгрец[87] ждёт, чтобы только по телу Австрии пробежали судороги восстаний; он опрокинет, набросит удавку, затянет узлом. Поэтому и слушает спокойно «кошачьи концерты» славян, окруживших Пражский замок.
В гостинице «Голубая звезда» дым, шум, распахнуты день деньской смежные двери номеров 14-го и 15-го, творится странное по пестроте костюмов, разнообразию говора, сильней всех гудит бакунинский бас.
Бакунин окружён вооружёнными: доктор Карл Сладковский[88], русый чех в гуситском камзоле, белые спокойные близнецы теологи братья Страка, журналисты Арнольд и Сабина, жестяных дел мастер Менцль, купец Прейс, патер Андрей Красный, мельник Мушка, много членов «Сворности», с чехами смешались кунтуши черногорцев, безрукавки словаков, польское штатское. У стены — выпущенный из берлинской тюрьмы повстанец Либельт[89] со словаком Туранским мораванином Захом. Шелестит рясой благостный старообрядческий поп Олимпии Милорадов.
— Будь мы, славяне-то, посолидарней да не столь падки на чужеземное, никогда б и не подпали под власть иностранных династий.
Страстен перед собравшимися бакунинский бас.
— Верно, верно, что мы, славяне, с трудом понимаем друг друга, но и у нас есть слово, которое понимают все славянские сердца! Это «Заграбьте нимцив!» — Сметайте немцев! — это наше слово знают от Эльбы до Урала, от Адриатического моря до Балкан, услышат его и на Неве! — потрясает кулаком Бакунин, — прав Коллар[90], что если б славяне были металлами, вылил бы он одну статую: голова — Россия! туловище — поляки! плечи и руки — чехи! ноги — сербы! а хорватов, словаков, словенцев, лужичан растопил бы в латы и оружие! О, перед этим изваянием, восходящим за облака, двигающим Землёю, вся Европа падёт ниц! Мы противопоставим Гёте — Пушкина! Мицкевича — Шиллеру! Наша болезнь — раздробленность и недостаток единства, но зато у нас есть свойство, за которое много бы дали племена старой Европы, — свежесть, за нами молодость! Она-то и призывает нас вступить в одряхлевшую жизнь мира и перестроить её заново! Может ли старая Европа работать для рождения того нового, что есть её проклятие и смерть? Может ли быть она союзницей той демонической, мир обновляющей силы, которая нам, братья славяне, прокладывает дорогу, чтоб мы могуче перелили нашу полноту крови, как свежие, весенние соки, в жилы окоченелой европейской цивилизации? Нет! Никогда! Никогда не выйдет правда из лжи! Великое из посредственности! Свобода из несвободы! Мы, последние пришельцы в развитии европейского общества, чувствуем себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы приготовили, что теперь считается за конечную цель гуманности, величия, свободы и счастья всего человечества!
Славяне зашумели одобрением захватившему их громадному, похожему на чёрного льва человеку; забряцало оружие, крики «Слава! Слава!» наполнили комнаты «Голубой звезды».
Предгрозовые летние сумерки ложились на древнюю Прагу; померкли купола, зашелестели в ветре сады, взволнованней понесла тёмные воды Молдава. Шумной толпой из «Голубой звезды» выходили славяне, меж искусственных пальм, пыльных зеркал, по коврам.
У Бакунина остались Либельт, мораванин Зах, отец Олимпий. Бакунин уславливался с Либельтом, где встретиться для выработки «Манифеста к европейским народам», порученного конгрессом. Никто так не кипел в эти пражские дни, как отставной прапорщик артиллерии Михаил Бакунин. Бакунин словно помолодел, был в своём элементе. Любил рёв восстания, шум клубов, площади, баррикады, любил и приготовительную агитацию, возбуждённую и вместе с тем сдержанную жизнь конспирации, консультаций, бессонных ночей, переговоров, договоров, ректификации, шифров, химических чернил и условных знаков.
— Прекрасно, до завтра, — прощались Либельт и Зах.
Когда они вышли, Бакунин размашисто повалился в кресло, растирая лицо руками.
— Устали? — сказал отец Олимпий. У Олимпия бескаблучные татарские сапоги, словно плывёт он по бакунинской комнате.
— Устал, отец, устал. Наболтаешься за день, — потянулся широченным движением рук, зевнул и крякнул Бакунин.
К окну поднималась лиловая сирень; Олимпий вытянулся в окно, и чёрная ряса смешно, как у женщины, обтянулась. Повернувшись, проговорил: