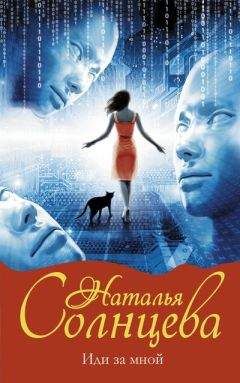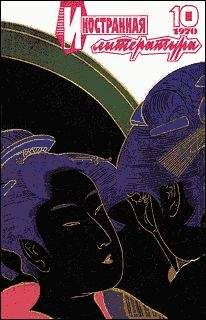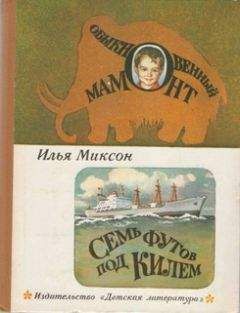— А Архангельск чего? — обиделся Якунька. — Где слабина, как не в губернии? Сын у Игнахи — погоны с золотом. Ему Куделин на сходке поднес резолюцию: ты, грит, в разрезе текущего момента гидра и голос не подынай, нето кудри-то повытрясем. В разрезе момента зеленой травкой прорастешь! Куда ж после-то Петрован девался? В Архангельск. Во, во… Сквозь пальцы глядят горожане на происки, если рассуждать в разрезе текущего момента.
— Кто у вас этот Куделин?
— На-а… — заерзал Якуня. — На-а! Куда мы, коли так, едем, как не в Совет к Куделину? Это-то, брат, большевик. В Шенкурске бунт, комиссары в тюрьму заперты, а у нас — близко, да тихо.
Я вскинулся:
— В Шенкурске беспорядки?
Якунька рассмеялся:
— Ровно с луны свалился, горожанин. Ужли в Архангельске-то не знают ни про Барана, ни про шенкурят?
Я умолк. Прикинул мысленно: Двинской Березник, Усть-Вага под боком… Возможно, и не случайно трос обрублен на буксире!
Кобыла, опустив морду и словно принюхиваясь, стучала копытами по корневищам, фыркая, обходила лужи. Пахло сырым мхом, с сучьев и хвои капало на ворот, и я то и дело вздрагивал, передергивал плечами.
Дорога, миновав лес, вывела к изгороди. Якуня спрыгнул наземь. Я слез кое-как. Шагу не ступить, каждая косточка ноет.
Якунька снял с кобылы самодельную узду, прикрикнул:
— Пошла, давай пасись!
Плетью он подпоясался, спрятав ее под кацавейкой. Наверное, у него и богатства — ременная плеть.
Избы спали. Свернув с дороги в проулок, Якуня повел по задворкам, мимо бань, огородов: приходилось то и дело перелезать изгороди, отпирать калитки.
— Ты чего, пастушок? — сказал я наконец. — Другого пути нет?
Якуня ответил с загадкой:
— Береженого бог бережет.
Так мы добрались до высокого, обитого тесом дома, стоявшего с краю неширокой площади. Над крылечком свисал флаг.
— Чего встал? — подтолкнул Якунька меня в спину. — Стучи давай. До чего же горожане бестолковые!
Дом долго не подавал признаков жизни.
Внезапно дверь распахнулась. Я отпрянул: черный наган целил мне прямо в живот.
— Кто такие? — послышался голос в проеме дверей.
Наган опустился, я увидел человека в накинутой на плечи шинели.
Якунька проворно оттер меня в сторону.
— Мы, Фома Григорич, с пристани.
В приемной волисполкома на окнах вместо занавесок пришпилены газеты, на продавленной кушетке мятая подушка. Над столом висит керосиновая лампа.
— Третьи сутки безвылазно в исполкоме, — сказал Куделин. — Что у вас, парнечки?
Я скинул картуз, чтобы достать записку и — с треском лопнуло стекло, просунулось в окно дуло обреза.
— Фомка, кончилась твоя власть!
Оглушительно грянул выстрел, посыпалась с потолка штукатурка.
В комнату ввалились. Возня, топот сапог. Керосиновая лампа качнулась, упала, и последнее, что я заметил, было то, как Якуня юркнул в сени, из-под кацавейки свисал кончик плети.
Неужели это те мужички, что приезжали в город с возами сена, кулями мороженого мяса, степенно крестились на собор, торговали в рядах Поморского рынка, жались из-за каждой копейки, боясь продешевить, и выручку прятали в мешочки на грудь?
— Фомка, покажь, где мирова-то революция?
— Га-га! Полируй ему харю… Ребра, ребрато ш-шупай!
Удары. Сопенье, как от тяжелой работы. Хруст стекол и душная вонь керосина, и пьяный гогот.
Ворвался мужик — рубаха распояской — и гаркнул:
— Стой, хуторские, Игнахе маленько оставьте!
В комнатенке стало тесно от рыкающего тяжелого баса. Было что-то баранье в пьяной красной этой роже, в узком лбе, на который нависали кольца спутанных волосьев, густых, как овчина, и я понял, на чьей лошади мы с Якуней-подпаском прискакали в село.
— Кровосос я в его мненьи. Народ х-граблю… Хлебушек, мельницу норовил отнять, меня пустить по миру. Коммуния, грит, настает, земля будет обчая…
Куделина подняли: лицо залито кровью, гимнастерка разорвана.
Игнаха шагнул к нему, косолапо загребая по полу сапогами.
— Мужики, чего у меня руки-то чешутся? Ручки мол… ручонушки-лапушки… Почто чешутся?
— Х-ха, — захохотали опять. — Го-о… Представленье!
Гудел в селе набат. По шуму за стенами можно было догадаться, что у волисполкома скапливается народ.
— Оставить самосуд, — раздался от дверей властный окрик.
Вот и старые знакомые… Как говорится, гора с горой не сходится!
Толпа расступилась, стихла разом.
— Ваше благородие! — взвился Игнаха. — Дозволь, на колени паду, радость вы наша. Извиняюсь, величать-то как, не знаю… Мужики, вот нам воевода. Послан от верховных властей. С ним Петрова мой, потому как правая рука!
Суконная тужурка в талии перетянута ремнем, сидит ладно, как мундир, суконному картузу не хватает разве что кокарды, — вскинул воевода ладонь к козырьку:
— Здорово, господа мужики!
— Здравия желаем, — послышалось вразнобой. — Наше вам почтение!
— Исполнили, как было велено, — вырывался Игнаха вперед. — Подняли народишко. Хуторские, они закоперщики.
Куделин едва держался на ногах.
— Граждане. Земляки… — разбитые губы плохо ему повиновались, кровь текла по подбородку. — Одумайтесь, с кем вы заодно? С контрой-кулачьем да офицерами. Славно вас поили, каково будет похмелье!
Сняв фуражку, воевода по-хозяйски расположился за председательским столом.
— Спасибо, господа мужики, за услугу законным властям.
— Благодарствуем на добром слове, ваше благородие, — рявкнул Игнаха.
А от дверей тихонько кто-то:
— Ить верно: офицеры, их благородья…
Воевода бровью не повел, вытирал белым платком бугристый лоб. «А, и ты тут?» — глаза его нашли меня.
— Это не окуньками на Поморской торговать, как находишь?
Лучше бы он ударил, чем так вот — одним словом перешиб.
Погреб завален рухлядью: рассохшаяся бочка без дна, колеса, тряпье, корзины. Пахло плесенью, единственное оконце, пыльное и подслеповатое, снаружи заслоняла крапива.
Взашей сюда втолкнули и, падая, я рассадил колено. Царапины ныли, я мазал их слюной и вздрагивал. Рядом стонал Куделин. Подложил я ему под голову свой пиджак, и Куделин затих.
Караула у погреба не выставлено: заперли, и все.
Боковой стеной погреб выходит в проулок. Оконцем он на площадь. Наверное, там яблоку негде упасть: собралась сходка, гвалт и гомон.
— Пить, — заворочался Куделин, очнувшись. — Пить… Под полом нет ли ямы? Не пошевельнуться мне, нутро отбито…
Половицы гнилые, иструхшие. Я долго возился, орудуя попавшей под руку доской, засунув ее в щель между половицами. Доска треснула. Между тем и половица поддавалась. Вывернул ее кое-как, сунул руку — вода! Начерпал пригоршнями в картуз, напоил Куделина, обмыл ему распухшее от побоев лицо. Отдавала вода затхлой гнилью. Превозмог брезгливость, глотнул раз-другой. Вроде бы полегчало.
— Паренек, — позвал Куделин. — Подь ближе. Что тебя в исполком-то привело?
Рассказал ему. Бессвязно, сбивчиво.
— Хорошо, — шелестяще шептал Куделин. — Баржа не пустая, раз в Котлас гоните. Снаряды, патроны… Большое дело! Ты не робей. К большому делу приставлен, так зачем робеть? Торопиться надо на большое-то. Ишь как надо торопиться-то, паренек славный!
Говорить ему было трудно: задыхался, пристанывал сквозь зубы.
Я принес еще воды, опять в картузе.
Куделин отпил глоток и отвел рукой картуз.
— Ты, паренек в разрезе момента счастливый. Вся, ну-ка, жизнь впереди. Да и мне чего прибедняться? Мы, паренек, кладем фундамент. Если что, не судите строго. Стройка зачинается, то всегда развал: хлам и нужный матерьял — поди разбери, что к чему. Посторонний если кто, нипочем толку не даст.
Он прислушался к тому, что делалось на площади.
— У нас — небывалое, у них — что было. Они знают, чего им надо. Старье латать взялися. А у нас — новье. Цельное новье. Нам-то тяжелей во сто крат! Все на нас легло: война, разруха…
Людской шум за стенами погреба улегся и над площадью зычно разнеслось:
— Господа деревенские жители, услышьте весть благую: вся Русь встала на защиту попранных комиссарами прав — со святым крестом, с животворной молитвой! Соединенная эскадра броненосцев Америки, Англии, Франции у у древних стен Архангельска. Пришел час светлого воскресения державы Российской!
В сумраке погреба лицо Куделина серело, как неживое.
— Врет? — спохватился я. — Врет об эскадре?
— Та и беда, паренек, что на правду похоже, — разлепил Куделин спекшиеся губы. — Союзнички, мать их за ногу… Самосильно лезут! Им чтоб русских в окопы загнать на войну с германцами, чтоб опять Россию за горло держать…
Сходка окончилась — я и не заметил.
Замок звякнул. Дверь обозначилась светлым проемом.