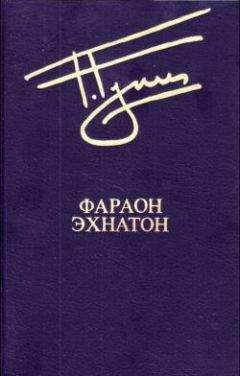Я застыл с посланием в руке. Малютке нет еще и дня отроду; мне оставалось только принести домой приказ отца. Было ясно, что отдал он его с большой рассудительностью и должной заботой обо мне. С тех пор как он уехал, я узнал кое-что о состоянии наших дел: мы не могли позволить себе затрат на приданое, а если же придется все-таки выплатить его, то в конце концов окажется, что за счет моего наследства. Но я видел, что малышка уже становится для матери радостью и утешением в понесенном ею поражении. И теперь я, когда должен был отобрать ее, думал о боли матери, и эти мысли меня терзали. Я вспомнил, как однажды ощенилась моя сука, а Ксенофонт сказал, что во всем помете нет ни одного щенка, которого стоило бы оставить. Я тогда утопил их всех, а собака пришла ко мне, скулила и трогала лапой мои колени: она думала, что я могу вернуть ей щенят обратно. Именно это воспоминание, думаю, толкнуло меня на грех, вина за который оставалась на мне так долго потом. Ибо, словно с самого начала знал, что собираюсь сделать, я вышел во двор за винной лавкой, разорвал письмо отца и выбросил обрывки папируса в отхожее место. Потом нашел Состия и отправился домой. Когда позднее мать послала за мной, чтобы написать отцу, я вставил такие слова:
"Мы надеемся по благорасположению богов получить от тебя известие, ибо пока что со дня твоего отъезда не имели ни слова".
Какой человек в здравом уме может выдержать политику и войну без спасительного смеха? И вот мы рисовали Алкивиада среди спартанцев, рыдающим по своему парфюмеру и повару; а тем временем он жил на берегах холодного Эврота, открытый всякой непогоде, по лаконским обычаям ел простую пищу, спал на твердом и говорил кратко. Рассказывают, через месяц те немногие, кто видел его, не могли поверить, что он не рожден спартанцем. Думаю, Ксенофонт не ошибался, когда рассказывал, как он однажды пустил в ход зубы в палестре. Но произошло это еще до нашего с ним рождения, так что мы не улавливали главного в этой истории: а главное было не в том, что он слаб или труслив, а в том, что ради победы не остановится ни перед чем.
Это именно он подсказал спартанцам, что временная передача нами кораблей аргивянам является нарушением перемирия. Тогда они, в свою очередь, поступили так же: на время передали сиракузцам стратега. Он отправился без войска, на рыбацкой лодке, в сопровождении одних илотов, переносивших его вещи и щит, потому Никий посмотрел на него сквозь пальцы и позволил проплыть.
Какое-то время после этого известия мы не получали новостей. Ксенофонт, когда кто-нибудь спрашивал об отце, отвечал, что с тем все хорошо, - его воспитали на спартанский лад, и он не любил много говорить о своих чувствах. Но все же он был куда более приятным собеседником, чем любой спартанец, и мы по-прежнему оставались добрыми друзьями. Сейчас он учился у Горгия, и его можно было видеть среди прочих юношей хорошего рода, которые серьезно слушали своего наставника и беседовали, не перебивая друг друга. Он не заговаривал о моей учебе - так как знал, что я не мог бы платить Горгию, в этом я уверен. Он прекратил смеяться над Сократом, но с сожалением отзывался о большинстве его друзей, которые, как я прекрасно понимал, не были бы приняты в доме Грилла. Он сам сказал мне об этом однажды, когда мы с ним охотились в Гиметтских горах. Мы убили зверя, свернули сети и устроились позавтракать на высоком каменистом плоскогорье, усевшись на камень, который сверкал росой, нанесенной с травы. Под нами раскинулся Город, золотой от солнца; за островом Эгина, на другой стороне залива, видны были синие холмы Арголиды, а за ними вдали поднимались высокие горы Лакедемона. Собаки, которым мы отдали объедки, зализывали свои царапины и ловили блох. В такие моменты разговор идет легко, и он спросил меня - без всякого недоброжелательства, - как я могу проводить время среди таких людей.
– Например, Еврипид [55]. Правда ли, что он показывает Сократу все свои пьесы, прежде чем отправить их для постановки?
Я сказал, что слышал об этом.
– Но как же тогда может пропускать Сократ такую непочтительность к богам?
– Дай определения своим терминам, - отозвался я. - Что есть почтительность к богам? Допустим, Еврипид думает, что некоторые старые сказки непочтительны к богам?
– Как только ты начнешь решать для себя, во что верить относительно богов, а во что не верить, где же ты окажешься? А кроме того, он принижает женщин, изображает их дешевыми.
– Вовсе нет, просто он лепит их из плоти и крови. Я бы подумал, что тебе такое понравится.
Я сказал так, потому что в последнее время он начал проявлять интерес к женщинам.
Он свистом подозвал собак и принялся выбирать репьи из шерсти, а они толкались, стараясь пролезть к нему поближе. Это были касторские гончие, рыжие с белой мордой; клички их, помнится, были Психея и Авгон. Выискивая колючки в ушах у суки, он продолжил разговор:
– Конечно, Алексий, человек должен быть предан своему учителю. Но послушать, как ты отзываешься о Сократе, то можно подумать, что он - твой любовник. Впрочем, если это так, не сердись на мои слова.
Я видел, что он совершенно серьезен и хочет лишь услышать о моих чувствах, если его предположение соответствует действительности. Как я начинал понимать, любовь такого рода была для него неизведанной землей. Могу добавить, что, насколько мне известно, он никогда не принимал ухаживаний поклонников. Ему всегда не терпелось стать взрослым мужем, и, может быть, он боялся, что захочет как можно дольше сохранить юность такое стремление и в самом деле характерно для пассивных любовников. Тут его не мог поколебать даже пример Спарты. Я иногда задавал себе вопрос, не отсутствует ли у него вообще способность любить мужей, но его не спрашивал - он был мне друг, и я не хотел обижать его такими разговорами.
Для ясности я лучше упомяну здесь кое-что, касающееся меня самого: я начал привлекать определенное внимание в Городе. Теперь, появляясь в палестре, я безошибочно осознавал общую паузу; начинались передвижения и всякие глупости, одни соперники пытались протолкаться вперед, а другие назад. Нет ничего более докучливого и смешного, чем слушать мужа, вступившего в позднюю половину жизни, когда он распространяется о подобных своих успехах в юности - как будто с тех пор так и не совершил ничего иного, достойного упоминания. Они обычно возводят себе в заслугу, что вызывали восхищенное поклонение не только у сотни людей, что-то понимающих, но и у троих-четверых, которые задавали моду. Этого совершенно достаточно, чтобы вдохновить поэта-другого, чтобы заставить разрисовщиков ваз украсить свои произведения надписями вроде "ПРЕКРАСНЫЙ АЛЕКСИЙ" и всякое такое прочее.
Но юноша не очень рисковал, что у него голова пойдет кругом, если пребывал в компании Сократа, который любил повторять в шутку, что сам был когда-то рабом красоты - вот так отважный муж будет смеяться после битвы и говорить, что остался на своей позиции только потому, что некуда было сбежать. В его присутствии никому не позволялось делать из нас дураков непомерными восхвалениями. Таких людей он отводил в сторонку и говорил: "Разве ты не видишь, что поешь песнь триумфа, еще не одержав победы? Более того, ты спугиваешь добычу, и ее будет труднее поймать, любой охотник знает, что так делать нельзя". Но не это одно мешало мне возгордиться.
Однажды я появился довольно поздно, когда Сократ уже вел беседу в колоннаде; юный Тегей говорил:
– Но, Сократ, я не думаю, что мы согласимся со словами, сказанными Лисием только что. Ты возражал, Лисий… Но где же он? Еще миг назад он был здесь…
Уже какое-то время меня озадачивало, что я теперь никогда не вижу Лисия в обществе Сократа. Мне показалось, что поскольку он не из тех людей, что вызывают нелюбовь в компании, у него должны быть какие-то свои причины держаться поодаль. Слова Тегея запали мне в голову, и позднее я спросил у него, часто ли появляется здесь Лисий.
– О да, - отвечал он, - примерно так же часто, как ты. Ты, должно быть, чисто случайно не сталкиваешься с ним.
Довольно скоро после этого разговора я узнал, что Сократ пошел в сады Академии. Я направил свой путь туда и увидел его сидящим под священной оливой у статуи легендарного героя Академа. Уходящий вниз склон был тогда открытым, так что глазам представал далекий вид. Я сразу заметил Лисия и почувствовал, как можно почувствовать издали, что и он увидел меня. Тут моя тропинка свернула, огибая олеандры, а когда я снова вышел на открытое место, он уже исчез.
Одно дело, когда человек уходит из палестры, полной его друзей, и совсем другое, когда единственное новое лицо - твое собственное. Я был вынужден идти дальше, поскольку все они видели меня; но в тот день я не блеснул в диспуте. Возвращаясь домой, я спрашивал себя: "Что случилось? Совсем недавно Лисий ничуть не стеснялся заговорить со мной на глазах всех воинов у Анакейона. Отчего же я сделался для него столь отталкивающим? Возможно, кто-то очернил меня". Предположение это было вполне естественно, потому что у меня завелись враги, в том числе такие, кого я и в глаза не видел, - а я бы с радостью вернул им друзей, если они их потеряли из-за меня. "Но нет, он не из тех, кого трогают сплетни, это я сам чем-то обидел его. Я не следил за своими манерами, как должно, я позволил увлечь себя лестью тех, кто не стоит внимания, и потому люди, судящие здраво, избегают меня с отвращением". Когда в следующий раз я увидел, что Лисий пришел раньше меня, я удалился сам, не заботясь, увидит он или нет. Я полагал, что по крайней мере знаю достаточно, дабы старшие не должны были направлять меня на правильный путь.