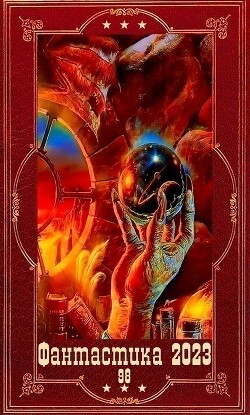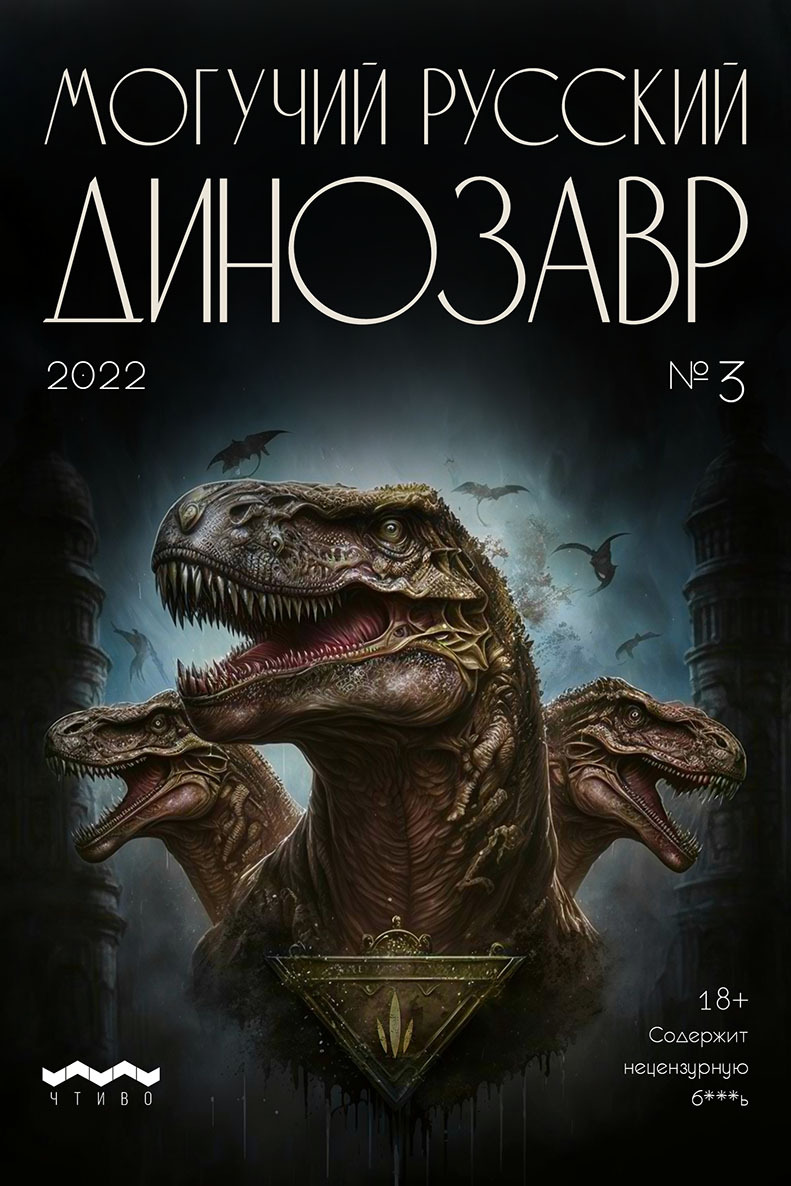в огромном, топившемся по-черному доме, где под одной крышей ютилось множество бедных семей, в душу запал этот образ будущего мира, в котором будет солнце, воздух, яркие краски и непременно белый хлеб на столе. Он вместе с другими мальчишками носился по улице, выкрикивая “Да здравствует Москва!”, кидался в полицейских камнями из укрытия и мелом рисовал на стенах советские звезды. Улюлюкая, отбивая такт в ладоши и горланя песни, он бежал впереди отряда, когда через их квартал проходил отряд “Союза красных фронтовиков” в зеленых гимнастерках и с музыкантами-шалмейщиками [11] во главе… Потом наступил тридцать третий год. Карлу тогда уже стукнуло четырнадцать, но на вид было по-прежнему десять. Свершилась “Национальная революция”, и его забрали в гитлерюгенд. В отряде и в школе ему вбили в голову, что фюрер создаст теперь “фольксгемайншафт” [12], и фольксгемайншафт этот “сбросит путы долгового рабства”, последует освобождение рабочего класса, и создастся мощная, великая держава, в которой будет царить социальная справедливость. Когда он вдохновленно пересказывал это дома, отец, которого преждевременно состарила непосильная работа, реагировал в лучшем случае презрительным смешком, а то и вовсе таскал его за нос. Они все больше отдалялись, отец начинал казаться ему чудаком, каким-то странным пережитком прошлого. Карл не понимал, как можно было восхищаться чем-то, чего и вовсе не было – как этим самым Лениным, давно уже умершим, – и не видеть при этом, а может, и не хотеть видеть, как прямо в родной стране свершается великое чудо. Ну и пускай старик верит в этого своего Ленина, коль ему от этого легче! Хоть бы он нос на улицу высунул да поглядел, что творится! Но нет, он повсюду твердил, что Гитлер это война – и прочую подобную чепуху. Однажды его наконец схватили и упекли в концентрационный лагерь. Прошло несколько недель, и пришла короткая телеграмма: “Застрелен при попытке бегства”. Лакош помнил тот скорбный день, как вчера. Мать, побледнев, все глядела на карточку, не в силах ни расплакаться, ни вымолвить хоть слово; он же рыдал что есть мочи от боли и гнева. Как же мог его старик так безрассудно поступить – бежать! Что с ним могло такого страшного случиться? Два месяца работ да немного политподготовки, которая ему наверняка бы не повредила. И из-за этого рвать когти? Но что произошло, то уже произошло. Отцу не суждено было застать новый порядок, который наверняка заставил бы его примириться с властью. Два года спустя, когда Карл пошел служить в механизированный корпус, они с матерью не на шутку повздорили. Изможденная женщина, после гибели отца замкнувшаяся в себе и ставшая несколько с причудами, пришла в такую ярость, какой ему еще никогда не доводилось видеть. Называла его классовым врагом, кричала, что он предал память отца. Он в гневе покинул дом, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Лакош регулярно слал матери короткие неловкие письма, в которых сквозила плохо скрываемая любовь, и каждый месяц отправлял деньги, даже с фронта. Но ответа никогда не получал. Настоящее мученье! Если бы дома не ждала его маленькая смуглая чертовка Эрна, это было бы просто невыносимо…
Вдруг он прислушался. Где-то позади него раздались выстрелы. В деревне зажглись огни. Оттуда доносился шум и звуки голосов. Подъехал мотоцикл.
– Тревога! – издалека закричал посыльный. – Русские танки в деревне!
Лакош заскакал от землянки к землянке, точно резиновый мячик.
– Тревога! – кричал он сквозь затворенные двери. – Тревога!
Из хижин показались заспанные офицеры и затрусили к месту сбора перед бомбоубежищем, в котором располагался начальник штаба дивизии. Туда же поспешили и еще не протерший глаза обер-лейтенант Бройер с пулеметом на шее, и зондерфюрер Фрёлих, и Херберт с Гайбелем. Перед бомбоубежищем царил хаос: смешались танки и машины, кричали и размахивали руками люди. Фельдфебель Харрас напрасно пытался призвать всех к порядку. Среди толпы носился растрепанный Унольд с непокрытой головой.
– Где Кальвайт? – кричал он, захлебываясь. – Кальвайт!!!
– Здесь! – пробасил майор.
– Кальвайт, выдвигайтесь! Судя по всему, с юга прорвались танки!
Майор и три его танка умчались в заданном направлении. В нервном ожидании прошло минут пятнадцать, и он вернулся.
– Все чисто! – доложил он. – Брехня!
– Господь мой Спаситель, – простонал Унольд чуть ли не со слезами в голосе. – С ума можно сойти! Еще три дня таким манером – и ко мне впору будет санитаров вызывать!
После ложной тревоги спать идти никому не хотелось. Офицеры собрались в просторном бомбоубежище, которое уступил штабу связьбат. В тусклом свете свечей они сидели и стояли вокруг в надежде узнать, каково положение вещей. Перед подполковником Унольдом стояла бутылка коньяка, время от времени он делал из нее большой глоток. Видно было, что коньяк его успокаивает, хотя по его бледному лицу все еще время от времени пробегала мрачная тень того волнения, что ему пришлось пережить.
– Итак, о положении вещей, – произнес он, проводя рукой по лбу. – Что можно сказать о положении вещей… Вы и сами видите… Нате-ка, выпейте по глоточку! Хотя бы один ящик генерал нам оставил.
Обстановка незамедлительно разрядилась.
Майор Кальвайт, вытянув ноги, сидел у стола и разглядывал на просвет свой стакан.
– И то верно, – сказал он. – До меня там всякие доходили слухи… Что же стряслось с нашим генералом?
– Дал деру.
– Как – деру?
– Вот так, деру! Просто взял и свинтил, да еще и прихватил с собой “хорьх” и половину нашего провианта.
Все загудели.
– Что же, вот так вот и сбежал? – изумился молодой офицер. – Да это же… Это же дезертирство!
Капитан Энгельхард приструнил его взглядом. Бесцеремонность Унольда задела его за живое.
– Господин генерал страдает тяжелым нервным расстройством, – подчеркнуто беспристрастным тоном сообщил он. – Внезапно возникла необходимость в отдыхе в санатории под Веной. Командование армией разрешило ему немедленно отбыть.
– Кое-что проясняется! – не выдержал стоявший у стены Бройер и рассказал о том, как встретил генерала у горящих складов.
– И представьте себе, – прибавил Унольд, – он еще хотел, чтобы я ему для его барахла выделил грузовик! Не на того напал!
– Тьфу, пропасть! – воскликнул капитан Зибель. – В такой ситуации взять и исчезнуть… Стыдно после этого даже носить звание немецкого офицера!
– Кто знает, удастся ли ему вообще выбраться! – вставил кто-то.
– Таким всегда удается! – парировал капитан Эндрихкайт.
– Вы не меня ли имели в виду? – раздался голос из дверей. Все обернулись и уставились появившегося на пороге человека в белом камуфляже.
– Бог мой, полковник Люниц! – подскочив, произнес Унольд, не выдавая эмоций. – Это и правда вы? Мы в мыслях уж было похоронили вас с почестями на двести восемнадцатой высоте…
Отряхнув снег, Люниц стянул с покрытой короткими седыми волосами головы капюшон, укрывавший его обветренное лицо, и