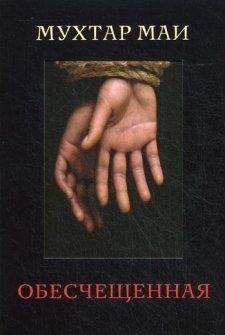— Айгерим давно перестала петь… Разве ее упросишь?..
В его голосе звучали нескрываемая грусть и сожаление.
Все последние годы их жизнь держалась только на взаимном уважении: искренняя радость, наполнявшая когда-то их дни, не возвращалась больше. Холодный ком залег у них в груди. А любовь — любовь жила только в обычных внешних проявлениях, которые не переходили определившихся за эти годы границ: их души уже не раскрывались, как в счастливые первые годы.
В голосе Абая сейчас слышался ласковый упрек — отзвук далеких, почти позабытых дней… Сердце Айгерим дрогнуло. Она быстро повернулась к Абаю. Ее глаза глубоко темнели — они и спрашивали и ожидали.
Айгерим улыбнулась, и ее тихий ответ прозвучал, как слова песни:
— Разве дело во мне, Абай? Не вы ли сами перестали слушать меня?
— Так спой нам, Айгерим! — со страстной мольбой в голосе сказал Абай. — Обо всем спой! Обо всем, что узнала, что запомнила! Новое спой, прошу тебя! Ведь оно есть у тебя!
Абай не хотел больше слушать никого, кроме Айгерим.
Чуть заметным движением бровей она сделала знак Ерболу. Этот чуткий друг понимал все. Взяв домбру из рук Муха, он подсел к Айгерим и заиграл «Песню Татьяны». Тонкой серебряной нитью заструилась песня, наполнив весь дом своими чистыми переливами. При первых же звуках голоса молодой женщины все замерли.
Абай был поражен: Айгерим никогда не пела при нем «Письма Татьяны», да и он сам ни разу не просил ее об этом. А между тем она, оказывается, знала каждое слово и каждый едва уловимый оттенок напева. Она и к Ерболу обратилась потому, что он один слышал, как она пела эти слова: не раз, оставаясь с ним вдвоем, Айгерим просила его наигрывать ей мелодию и тихо, вполголоса повторяла песню.
И теперь, когда она впервые при всех запела эти строки, у жигитов-певцов невольно мелькнула одна мысль: «Это же и есть сама Татьяна, Татьяна, сияющая красотой, охваченная страстью песни… Она, она…»
И они слушали затаив дыхание.
Абай внимал этой песне, и ему казалось, что она обладает необыкновенным свойством. Первый раз ее пел Мухамеджан в самый день ее создания, и тогда Абай с волнением прислушивался к своим же словам и напеву, вызывавшим в нем восторг. Сейчас он слушал ее второй раз — и с изумлением чувствовал, что снова поддается ее чарам. Зимой все певцы разъехались из Акшокы, так что Абай изредка слышал только мелодию песни, исполняемую кем-нибудь на домбре. Сейчас Айгерим вдохнула новую жизнь в слова Татьяны — и песня, обновленная и чудесная, возродилась перед своим же творцом.
Абаю казалось, что он обрел самого себя, — того Абая, который когда-то вот так же слушал свою любимую, не сводя с нее глаз, не смея перевести дыхания. Айгерим, как и прежде, вкладывала всю душу в каждое слово, в каждый новый перелив напева. Она не пела — она изливала глубоко затаенную грусть своего сердца. Это была уже не только Татьянина тайна: страстный шепот молитв и надежд вспыхнул жарким пламенем песни, рвался из груди самой Айгерим только к одному, единственному из всех — к Абаю.
Ты — мой супруг любимый,
Богом указанный мне,
Но меня не избрал ты другом,
Оставил одну во тьме…
Не грустный ли упрек покинутого друга доносят эти слова? Лицо Айгерим бледно, последние следы румянца сбежали с него, — певица точно охвачена волнами песни. Чистая, правдивая душа Айгерим наполняет своим трепетом каждое слово — и заповедная тайна раскрывается все яснее и прозрачнее. Забыв обо всех, она говорит только с Абаем: «В чем вина моя? И если есть она — ты ли не простишь ее? Ведь я — единственная твоя… Что же ты сам не приходишь ко мне, раскрыв душу свою? Найди прежние светлые дни, горячие дни… Найди меня…»
Казалось, Айгерим изнемогала от песни: и чувства, наполнявшие эти близкие ей слова, и грустные переливы мелодии отнимали последние силы ее души, сдавливали дыхание.
Никто не смел нарушить молчания. Абай сидел бледный, с широко раскрытыми глазами. Он чувствовал, как холодок дрожи пробегал по его телу. Вдруг он резко сдвинул брови, порывисто обнял Айгерим и покрыл поцелуями ее влажные глаза.
— Айгерим, бесценная моя, песней и слезами своими ты снова нашла меня! Чистая, искренняя — ты сама вернулась ко мне!.. Ведь это твоя душа изливалась в тоске Татьяны!..
Молодые друзья, окружавшие Абая, были глубоко взволнованы.
— О Татьяна, — дрогнувшим голосом сказал Кокпай, — в дочери казаха ты нашла себя! Еще не одной душе, затаившей в себе свою чистую тайну, ты дашь язык!
Ни Абай, ни Айгерим не могли больше разговаривать: слова излишни для сердца, отыскавшего друга. Пробужденная любовь не нуждается в словах и не терпит чужого взгляда.
Муха, Кокпай и другие жигиты поднялись и тихо разошлись. И едва закрылась дверь за последним из них, как Абай и Айгерим сомкнули жаркие объятия и слились в бесконечном поцелуе…
Песня развязала тяжелый узел, долгие годы стягивавший их души. Она снова соединила их, равных и равно вдохновенных; она не позволила ни изменить, ни потерять друг друга. Угасшее вспыхнуло, утерянное вернулось к ним с любовью и песней Татьяны…
Так в зиму тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года великий русский акын Пушкин впервые вступил в простор казахских степей, ведя за руку милую свою Татьяну. Он принес в эти просторы радость своих песен, а его Татьяна пришла как близкая, как родная всем — и научила молодые сердца казахов тому языку искреннего чувства, каким еще никто не говорил в казахской степи.
Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, распространялись в песнях вокруг. Новое слово, хранившее в себе тайны сокровища, летело по степи, как тихий ветер Сары-Арка, медлительно и плавно веющий над ее просторами. Новые песни, никогда раньше не звучавшие в этих краях, летели на крыльях ветров, неся долгожданный ответ степям, вопрошавшим сквозь многовековую молчаливую дрему. Голос нового племени — они летели как вестники вешних дней. Не ушедшая зима породила их: они явились для наступающего лета с его новым цветением, с его возрождением. Эти песни звучали для тех, кто ищет новой жизни, новых просторов: для прозорливого ума, для чуткого сердца, для сильных и смелых, полных тревожных дум и готовых к борьбе…
Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, долетели в песнях до Ералы. Хасен и Садвокас, сироты, когда-то взятые Абаем в городскую школу, каждый вечер читают здесь вслух переписанные ими строки: и у колодца, и за аулом, и у костра. Даркембай и другие жатаки, старые и молодые, без конца заставляют их читать стихи Абая. Давний старый друг его Даркембай, понюхивая свой табак, придвигается поближе к юному грамотею и долго слушает его.
О казахи мои, мой бедный народ!
Жестким усом небритым прикрыл ты рот.
Зло — на левой щеке, на правой добро.
Где же правда — твой разум не разберет!..—
так начинает свои стихи печальник народа Абай, — и Даркембай видит перед собой его самого и верит ему. Грусть усталой старческой души сливается с печалью поэта.
Дандибай и Еренай просят прочесть их любимые стихи:
Хоть мы уже старцы, хоть мысли печальны,—
в нас жадность сильна.
Беда, коль пойдут наши дети за нами,—
судьба их страшна.
Не радость работы, а зависть и алчность
вселились в сердца.
Не подвиг нам важен, не труд нам приятен,
а мзда нам нужна.
Старики оживляются. Такие песни, рожденные правдой жизни, метко бьющие по давним врагам и насильникам, особенно радуют их: что могут возразить на эти крылатые слова всякие такежаны, майбасары, уразбаи?.. Старики, прослушав, просят повторить еще раз. Им уже мало чтения, они требуют: «Пой!.. Пой, как песню!..»— и заставляют юношей хором петь слова Абая. Правдивые слова, внятно звучащие в молодом стройном хоре, восхищают стариков.
— Какие слова, как сказано!.. По всем шестидесяти двум жилам огнем пробегают! — восклицают они.
— Ни один сын казаха не скажет то, что говоришь ты, Абай!.. Так можешь сказать только ты, драгоценный мой, единственный золотой тополь в пустыне моей!.. В глухой равнине чутким рожденный!.. — говорит Даркембай. Он говорит эти горячие слова за всех слушателей, в молчании внимающих стихам Абая…
Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, поет как песню Мухамеджан.
Вчера весь вечер он провел в юрте Оспана, пел и читал. Чтобы послушать его, молодежь аула и все соседи-прислужники тесным кольцом облепили юрту снаружи и долго не расходились.
Улжан давно не видела Абая, материнское сердце ее тосковало. Она слушала стихи Абая, не замечая ни входящих в юрту, ни приезжающих гостей. Может быть, к ней, к матери, он и обращался с этими словами: