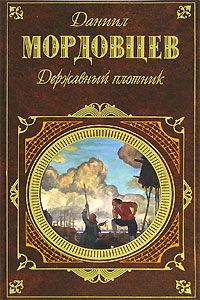Он подошел к иконе, три раза поклонился в землю и приложился к ризе Богоматери. Владыка, у которого дрожала рука, покропил его святой водой.
К воеводе подвели рослого вороного коня, который нетерпеливо рыл копытом землю и пенил удила. Воевода медленно сел на него и в сопровождении подручных воевод стал объезжать ряды.
— Постоим, братие, за святую Софию, за домы свои и за волю новогородскую! — то и дело обращался он к войску.
— Утрем пота за святую Софью! — отвечали ратные.
— Положим головы за волю новогородьскую! Ляжем костьми!
— Не посромим Господина Великово Новагорода!
По знаку воеводы затрубили рога, загудели гудки, заколотили бубны.
— В насады! В насады! — прошло по рядам.
Войско двинулось к насадам, которые покрывали весь Волхов по ту и по другую сторону «великого моста». Бабы и дети снова взвыли.
— Фу-фу-фу! — радовался с колокольни вечевой звонарь. — Полетели пчелки для своея матки медок добывать... Фу-фу-фу, сила какая!
Марфа в последний раз обняла сына... «Митя... соколик мой... золото червонное... о-о-ох!» — И острое, нехорошее чувство шевельнулось у нее в груди против того статного, черноусого «хохла», который обнадеживал ее литовскою помощью... «Аспид пучеглазый!..»
— Баба! Баба! — теребил ее за подол маленький Исачко. — По ком ты плачешь?.. И я заплачу...
— Новгород! Новгород! — отчаянно каркал ворон, взбудораженный необычайным движением и плачем.
Скоро насады, наполненные ратными людьми, уже пенили гладкую поверхность Волхова тысячами весел, а оставшиеся новгородцы и пригорожане, большею частью бабы и дети, двигались берегом, провожая глазами своих «лад милых» и махая усталыми руками все далее и далее уходившим насадам.
Марфа тоже стояла заплаканная, провожая глазами стяг, который тихо полоскался в воздухе над воеводским насадом, умчавшим ее дорогого Митю на кровавый пир. И ей невольно вспал на память таинственный сон, виденный ею этою ночью, — сон, в котором ее суеверный ум угадывал что-то пророческое, страшное, но что — она не знала... Ей снилось, что она стоит на вечевом помосте и слышит у святой Софии похоронный перезвон и жалобное причитанье многих женских голосов. Она спрашивает — кого хоронят, и ей отвечают, что хоронят волю новгородскую... Она торопится с помоста, чтобы посмотреть на похороны, но в этот момент у нее на шее разрывается дорогое ожерелье и крупные жемчужины рассыпаются по земле. Откуда ни возьмись куры, и — клевать ее жемчуг... «Несут-несут», — слышит она голоса и видит, что люди несут гроб, а в гробу лежит она сама, Марфа, и за гробом идет та льняноволосая девушка, которую она недавно видела за городом, на берегу Волхова, обсыпанную цветами и зеленью, и голосно причитает: «Матушка родимая! На кого ты меня, сиротинку, покинула...»
— А мне батя посулил привезти пряник московской — во какой, — бормотал между тем маленький Исачко, теребя ее за подол.
А издали, с насадов, уже доносилась голосистая, как бы заунывная, раздумчивая песня:
В Новегороде ли было на Софийской стороне,
Раззвонился, братцы, раскричался вечной колокол:
Уж и чтой-то, братцы, у нас в Новегороде нездорово...
Конный полк тоже уже давно взбивал облака пыли за городом. В облаках пыли трепались новгородские стяги, поблескивая на солнце золочеными яблоками, крестами и унизанными разноцветным каменьем ликами угодников, изображенных на широких полотнищах знамен. Это был владычний полк, предводительствуемый благочестивым боярином Лукою Клементьевым.
Насады между тем, сверкая в воздухе бесчисленными веслами, словно крыльями, быстро подвигались к Ильменю. В воздухе, на всем пространстве, занимаемом этою флотилиею, носился говор и гул тысяч голосов, и все эти голоса покрывала заунывная, хотя и удалая мелодия:
Разыгралось, расплескалось, братцы, Ильмень-озеро,
Расходились, разусобились люди новгороцкии,
Выходила ли Торговая сторона на Софийскую...
— Глянь, братцы, опять на берегу очавница...
— Смотри, смотри! Кому-то клюкой грозит.
— Ах, старая кудесница! Чур-чур!.. С нами хрест.
— А вон дивка-чаровница... Коса-то какая белая — лен чесаный.
Действительно, на берегу опять стояла старуха-кудесница и грозила кому-то клюкой, но кому — этого никто не знал, хотя каждый суеверно принимал на свой счет.
Кудесница эта слыла в Новгороде за злую ведунью, и все ее боялись. Рассказывали старые люди, что родилась она в незапамятные времена от зашедшего сюда из чуди волхва и бабы-кудесницы, которая могла напускать на людей мор, низводить с неба дожди и повелевать солнцем и месяцем, которые иногда даже «скрадывали» солнце и месяц, — и все это страшное ведовство передала своей дочери, настоящей кудеснице, жившей в никому не досягаемой пещере... С нею жила теперь другая чаровница, которую будто бы старая ведунья прижила с дьяволом...
Эта молодая чаровница тоже стояла на берегу. Она, видимо, искала кого-то глазами среди насадов. Наконец отыскала кого-то, узнала, и лицо ее вспыхнуло, а потом мертвенно побледнело...
Когда насады проплыли мимо нее, она закрыла лицо руками и, казалось, заплакала. Льняная голова ее закачалась из стороны в сторону, словно бы она причитала...
Но вдруг, к изумлению ратных людей, она отняла руки от лица, быстро, спотыкаясь, последовала вдоль берега за насадами и на ходу все крестила их...
— Что за притча! — удивлялись ратные люди. — Не то она хрестит, не то расхрещивает...
Долго эта таинственная чаровница шла за насадами, пока они не скрылись у нее из виду.
А насады уже вышли в Ильмень-озеро. Все были оживлены, разговаривали, смеялись, бранили москвичей и Псков, который не шел Новгороду на помощь. Воевода, князь Шуйский-Гребенка, окруженный подручными воеводами, каковыми были молодой Марфин сын Димитрий, Василий Селезнев-Губа, Каприян Арзубьев и Иеремия Сухощек, — говорил о предстоящем воинском деле, о трусости москвичей и об ином прочем.
Один только Упадыш молчал, смутно свесив свою золотистую голову на грудь, покрытую кольчугой, и по временам оглядывался назад к тому месту, где маячилась на берегу льняная головка молодой чаровницы, пока и она, и берег, по которому она шла, не скрылись из виду.
Виднелся еще сзади Перынь-монастырь с его золотистыми главами, но скоро и он как бы погрузился в воду. Кругом расстилалась гладкая поверхность Ильменя, которую иногда рябил тихий южный ветерок, да на голубом небе стояли неровными рядами перистые облачка, которые, как и само небо, казалось, тихо двигались на полночь, к оставленному назади Новгороду.
Песня давно смолкла. Многие из ратных людей, соскучившись однообразием картины и убаюканные плавными покачиваньями насадов, спали или дремали, вспоминая свои дома, жен и других близких сердцу, которых иным, быть может, уже не суждено больше увидеть и обнять, как еще недавно они обнимали их на прощанье, а те благословляли и целовали их с ласками и плачем.
Упадыш, все время молчавший, уже не оглядывался более назад — его задумчивые черные глаза сосредоточенно следили, казалось, впереди за чем-то далеким, чего никто не видел. По временам губы его подергивались как бы от внутренней боли, и он встряхивал своими искрасна-рыжими волосами, словно бы его преследовала не то надоедливая муха, не то неотвязчивая мысль. Он, видимо, искал чего-то впереди, ждал этого чего-то, а позади него, вот тут, за плечами, стояло что-то другое и не отходило, как он ни отмахивался от него.
Вечерело. Солнце начинало уже клониться к западу и косвенными лучами золотило и мачты, и стяги новгородские, и плавно взмахивавшиеся над водою весла. А Упадыш, неподвижно сидя на носу своего насада, все глядел вперед.
Усталые гребцы от времени до времени перекидывались словами, но Упадыш точно не слыхал ничего.
— А какой нониче у нас, братцы, день?
— Ноли забыл?
— Забыл-ста... Да и как не забыть! С коей годины на ногах!
— И точно, забудешь... Кажись, вторник у нас.
— Вторник и есть... Ноли забыли, какой завтра праздник?
— А какой? Мы не попы.
— А Ивана Предтечу забыли... Иванову-ту ночь?
— Ай-ай, робятушки! И в сам-дель: завтра у нас Ярила живет...
— И вправду — ай-ай!.. Так ноне у нас Ярилина ночь[57] будет?
— Ярилина! Эх ты, кумирослов! Али забыл, как тобя поп в загривок наклал за Ярилу?
— Помню, что ж! Не велел Яриле молиться: Ярила, слышь, идол...
— Идол и есть...
— Сказывай!
— То-то... сказывай! Попу ближе знать. Ноне ночь до Предтечева живет.
— У тебя Предтечева, а у меня Ярилина... То-то бабы да девки взбесятся ноне!.. То-то скаканье да плесканье буде! Пенье да славленье — эх!.. А мы вот туто возжайся!.. Подавиться б ей, Москве кособрюхой!
— Смотри, братцы, смотри, дым-от какой!
— Где дым, паря?
— Да вона — прямо на берегу...
— И точно, — и-и какой дымина!.. Откудова бы ему быть?