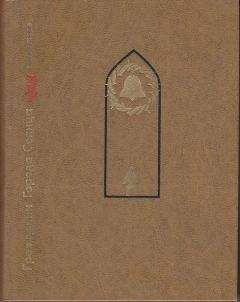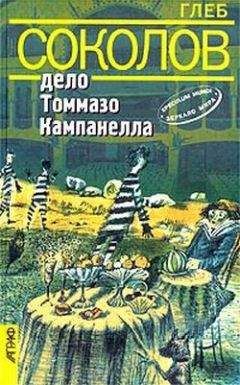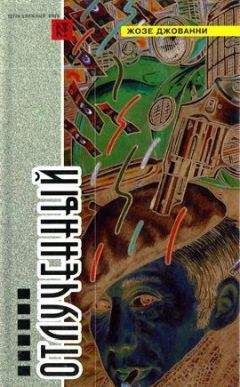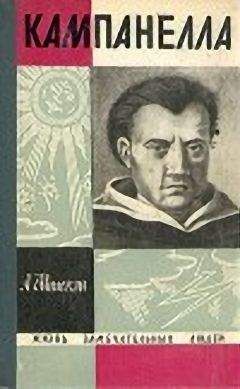Гулко и тяжко ударил большой колокол. Надо облачаться в ризы и стихари и спешить, притом не ускоряя шагов, на богослужение.
Однако разговор об участи родной страны, однажды начавшийся, более не обрывался. Медленно прогуливаясь по монастырскому саду, где дивно цвели бархатные анютины глазки, нежно-розовые и золотистые бальзамины, недолговечные маки, благоухающие фиалки и вербены, новые знакомцы тихо беседовали. Головы их были склонены, руки перебирали зерна четок. Издали могло показаться, что беседуют они о назидательном и богоугодном.
Однако речь шла об ином. Дионисий рассказывал, как вступил на престол папа Сикст V. Покуда он был кардиналом, он пятнадцать лет кряду выглядел слабым, немощным, хворым, ходил, опираясь на посох, говорил еле слышным голосом. Когда надо было выбирать папу на место умершего, кардиналы выбрали его, надеясь, что он будет податливым воском в их руках. Но, едва выбранный, Сикст V запел хвалебный псалом господу таким могучим голосом, что кардиналы побелели от страха. И он, отбросив свою мнимую немощь, стал править железной рукой.
Томмазо показалось, Дионисий восхищается хитростью папы, как восхищаются простодушные люди тем, что им не дано. Томмазо ужаснул способ, каким Сикст V взошел на святой престол. Папа — наместник бога на земле! Страшно подумать, что наместником бога может стать лицемер!
Дионисий возразил, что Сикст V сделал это ради благой цели: став папой, укрепил папский престол, искоренил в Риме и округе бандитов, от которых не было житья, заставил считаться с собой государей, сократил расходы.
Но все это дела мирские! Разве о таких помышляли, разве о таких учили апостолы?
— Когда страна в беде, все средства хороши, — упрямо возразил Дионисий.
— В чем беда?
— Если на твоей земле хозяйничают чужаки, это не беда? Если берег твоей страны грабят пираты, это не беда? Если в святой церкви всем заправляют симониты — святокупцы, за деньги делающие грешников священниками, это не беда? Если в судах все в руках взяточников, это не беда? Если крестьяне честным трудом не могут прокормить семью и предпочитают бежать в горы, жить там в пещерах, подобно диким зверям, только бы вырваться из рук тех, кто их грабит, разве это не беда? Или ты не слышал о них, о фуорушити? Их поносят, называя разбойниками, но настоящие разбойники живут не в пещерах, а во дворцах!
— Сколь пламенная проповедь! — воскликнул Томмазо, скрывая свое смущение. Да, он знает обо всем этом, но никогда еще не ставил всего рядом — лихоимства, симонии, беззакония, нищеты крестьян. Теперь у него появятся новые «почему».
В доминиканской обители, что в уютной зеленой Козенце, которая поддерживала отношения с обителью в Никастро, был назначен диспут. Диспуты были в таком же почете, как турниры, и, случалось, собирали зрителей не меньше. Тема — богословские и философские тонкости. Участие в таком споре требовало начитанности, памяти, внимания. Нужно было отменно знать тексты, на которые будет опираться оппонент, предусмотреть возможные неожиданности, запоминать на слух его аргументы, ловить его на противоречиях и не попадаться самому в ловушку. Нужен хорошо поставленный голос, звучащий недоумением, гневом, увещеванием. Осторожность нужна, чтобы не произнести ничего еретического, а то противник или кто-нибудь из его сторонников напишет донос. За милую душу! Невелика радость вести спор на кафедре, а расплачиваться за него в камере. А ведь такое и случалось и случается!
Такие диспуты в большом почете. Как рыцарские турниры у знатных и петушиные бои у крестьян. Богословов приучали к ним смолоду, как рыцарей к ристалищам.
Диспут в Козенце готовился особенно торжественно. Городок, что лежит у подножия лесистых гор, на берегу узкой речки, заполнили гости, приехавшие на диспут. Состязаться должны францисканцы и доминиканцы. Ордена эти издавна соперничали. Францисканец, который должен участвовать в диспуте, славился ученостью и искусностью в полемике. Его оппонентом был назначен не менее ученый доминиканец. Оба противника немолоды и во всем достойны друг друга. В канун диспута доминиканец внезапно захворал. Захворал или убоялся? Этого никто не знал. Отправить гонца в Козенцу и сообщить, что один из участников диспута прибыть не может? Не поверят, сочтут пустой отговоркой, по всем монастырям распространится слух, что доминиканцы признали свое поражение. Скандал! Настоятель обители в Никастро с одобрения провинциала ордена принял решение, изумившее многих.
В час, когда церковь в Козенце, где предстояло быть диспуту, заполнилась монахами, послушниками, странствующими студентами, мирянами и седовласый францисканец занял свое место, его оппонента все еще не было. По толпе, уставшей от ожидания, прошел шум. Тут в церковь вошел никому не известный молодой доминиканец — коренастый, широкоплечий, с некрасивым лицом простолюдина и умными глазами. Он преклонил колени перед алтарем, низко поклонился капитулу и сказал, что ему, недостойному иноку Томмазо, доверено выступить в диспуте, представляя свою обитель и свой орден. Собравшиеся вознегодовали. Достаточно поглядеть на согбенного, убеленного сединой, умудренного жизнью францисканца и на молодого пришельца, чтобы понять: его появление — оскорбительная дерзость! Однако настоятель Козенцы не удивился и не разгневался. Переждав шум, он важно сказал:
— Мы разрешаем тебе, брат Томмазо, принять участие в диспуте. Достопочтенный собрат мой, настоятель обители в Никастро, сообщил нам — ты достоин!
Вместе с Томмазо в Никастро был послан Дионисий — обитель блюла правило не отпускать в дорогу молодых доминиканцев в одиночку. Конечно, помочь ему в споре друг не мог. Дионисию было легче целый день прошагать по жаре пешком или целую ночь проговорить о политике, чем участвовать в богословском словопрении. Но знать, что среди слушающих тебя — друг, всегда отрадно. Они условились: если Томмазо излишне увлечется, Дионисий поставит молитвенник, который будет держать в руках, на ребро.
Диспут продолжался много часов. В церкви висел душный туман от ладана, дыма свечей и дыхания собравшихся. Гул недовольства, изумления или одобрения проходил по церкви. Только уважение к святости места мешало слушателям вскочить, затопать или зарукоплескать. Вначале Томмазо ощущал явственное недоброжелательство аудитории. Потом стало чувствоваться любопытство. Знатоки переглядывались, подталкивали друг друга локтями. Наконец, прозвучали возгласы одобрения. И вдруг в тот миг, когда Томмазо воспользовался особенно смелым аргументом, кто-то вскочил с места, всплеснул руками, воскликнул могучим басом: «Браво! Брависсимо!» — и тут же сел, смущенный своим неподобающим поведением. То был Дионисий, который не только не поставил на ребро молитвенник, но вовсе забыл о его существовании. Победившим был признан брат Томмазо. Францисканец не поздравил его, как было принято, а поспешно покинул церковь.
Томмазо же и Дионисий, перед тем как отправиться в свою обитель, задержались в Козенце. Дионисий хотел показать другу развалины древнеримских укреплений и рассказать об их судьбе. Но их остановил местный богач. Он во время диспута ставил на Томмазо, выиграл и теперь хотел угостить молодого диспутанта и его спутника.
— Такого жаркого из молодого козленка и такого вина — клянусь одиннадцатью тысячами девственниц! — вы не пробовали.
Дионисий для порядка попенял козентинцу, что тот клянется, да еще в присутствии монахов. Это двойной грех, даже и при таком числе девственниц. А от угощения отказался: их ждут!
На обратном пути Дионисий все еще жил диспутом, повторял аргументы Томмазо, восхищался им, ликовал. А Томмазо чувствовал себя усталым и опустошенным. Не радовался победе.
Дионисий спросил друга, почему он мрачен.
— Не ликовать после такой победы — гневить бога!
— Ты умеешь играть в шахматы? — спросил Томмазо. Дионисий, разумеется, умел. Шахматы в Италии издавна чтут и любят. Есть игроки, что живут этим искусством.
— Партия заканчивается, — сказал Томмазо. — Один выиграл, другой проиграл. Но в самих правилах не изменилось ничего! Ни одно состязание в шахматы никогда не ответит, почему любая фигура должна погибать, чтобы защитить короля, почему король более слаб, чем ферзь, состоящий при нем, почему пешки гибнут одна за другой, почему так опасна фигура, способная наносить коварный удар из-за угла, — конь. Игра сыграна. Фигуры ссыпаны в мешок. И ни-че-го не изменилось. Те же фигуры. Та же доска. Те же правила. Вот так и наш диспут!
День, когда они возвращались с диспута, был необычным. Всюду горели костры, в которых с треском и чадом сгорало выброшенное на улицу старье, праздновали начало весны. «Фогарацца» — так назывался этот праздник.
— А в нашем споре ничего не сгорело, хотя старья предостаточно, — сумрачно сказал Томмазо и надолго замолчал.