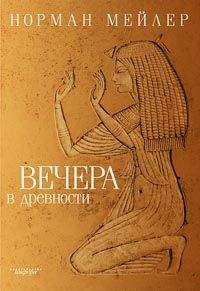Без нее я впервые ощутил себя потерянным среди обступившего меня одиночества, которое заставляет нас так бояться нашей гробницы. Никогда Храм не был таким процветающим, а моя деятельность в должности Верховного Жреца получила немалое признание, меж тем я испытывал смертную скуку. У меня в руках была большая власть, но она так мало радовала меня. Мной овладело беспокойство, присущее жрецам, занимающим высокое положение в Храме, и мелкие дела стали для меня важнее больших. Я бранил поваров за испорченные блюда так же яростно, как укорял жрецов за ошибки в молитвах. Служить орудием Богов — властное призвание для скромного юноши со слабым телом и острым умом, но взрослого человека это уже не подхлестывает.
Отголоски моей прошлой жизни стали все чаще возвращаться ко мне. Теперь, когда Усермаатра и Медовый-Шарик покинули этот мир, те стены сознания, что удерживали меня в пределах обязанностей моей второй жизни, стали подаваться. С шести лет я знал, как был зачат, однако, пока были живы Медовый-Шарик и Сесуси, я не искал большего знания о моей первой жизни — мне было достаточно того, что я отличался от других.
Теперь же, прогоняя мою скуку, стали приходить образы другого человека, которым я был когда-то. Посреди возвышенного обряда перед моими глазами вдруг возникала Медовый-Шарик, и она была молодой, а ее кожа красной от огней ее алтаря и душевного напряжения, которого требовала ее магия. Ее огромные груди колыхались предо мной.
Среди нас было известно, что Сет способен нарушить молитву, посылая соблазнительные образы, но я знал, что эти картины приходили из моей памяти, а не мечтаний. Ибо мне они представлялись естественными, и вряд ли могло быть так, что несчастный Бог стал бы мешать моим обрядам. Затем я вспомнил, как чувствовал себя в юности, когда учился писать. В такие моменты, казалось, внутри меня просыпался какой-то сильный человек, который с жадностью глядел на едва ли понятные ему знаки. Я же мог читать их свободно. Однажды, в обычном бодрствующем состоянии, я ощутил себя словно во сне, так как обнаружил, что сражаюсь при Кадеше и познал объятия Нефертари. Хотя я не могу сказать, что первая жизнь возвращалась ко мне во всей своей определенности, но мое сознание прояснилось достаточно, чтобы эти воспоминания вызвали во мне крайнюю неудовлетворенность. Я чувствовал свое превосходство перед остальными. Теперь, будучи Верховным Жрецом и распоряжаясь такими сокровищами, какие никто не смог бы накопить, я все же не имел и золотой чаши, которую мог бы назвать своей собственной. Поэтому для меня стали интересны богатые люди. То, что наш Фараон правил в одном городе, а великие храмы располагались в другом, открывало врата для огромного богатства. Отчего, не могу сказать, разве что дело в том, что богатые люди не осмеливаются открыто показать то, что они обрели, так как должны пребывать в трепете от близости к Фараону. Однако теперь в Фивах богатым было гораздо проще приобретать себе поблажки в загробном мире. Можно сказать, что тысяча богачей рядом с Храмом заменяют Фараона, притом что они и не являются равными Ему. Я окунулся в их удовольствия и стал самым недостойным Верховным Жрецом, конечно же, я не мог спать по ночам от мыслей о тех богатствах, что ежедневно хоронят в Городе мертвых Западных Фив. Я не только знал обо всех мерах предосторожности, защищавших те гробницы богачей, но даже имел список, выполненный самым великолепным письмом — почерк наших лучших храмовых писцов был изысканным! — какие именно драгоценности и части позолоченной мебели замуровывали в их погребальных покоях.
Я также знал некоторых из предводителей разбойников в тех краях. Я не забыл того, что Усермаатра поведал мне о грабителях из деревеньки в Западных Фивах, и, когда время от времени кого-нибудь из этих людей ловили, я посылал весточку его семье до того, как он нес наказание. Настала ночь, когда я поднялся со своей постели, где сон бежал от меня, и, к большому удивлению паромщика, пересек реку на пароме, принадлежавшем нашему Храму. В ту ночь я сам прошел весь путь до деревни воров, чтобы сделать необходимые приготовления. Ради того, чтобы те воры поверили мне, пришлось устроить так, что с одного из их недавно схваченных братьев сняли оковы и он стал моим слугой. Немало гробниц было вскрыто, и на свет были извлечены несколько прекрасных вещей. Храбрость этих воров росла от заклинаний, которые я мог предложить им от проклятий, начертанных на каждом подземном своде. Какую позорную огласку получили бы мои действия, если бы меня изобличили!
Однако Пепти не зря наложил на меня свою руку, когда я был ребенком, и я становился все более дерзким. Помню один чудесный золотой стул, извлеченный из гробницы старого торговца, который через своих людей я продал номарху из Абидоса. Когда и он умер, его мумия была послана в Фивы — из Абидоса! — и похоронена со всеми его сокровищами, а вскоре его гробница была ограблена. Что ж, я продал тот стул еще раз!
Могу сказать Тебе, что к концу своей второй жизни я стал невероятно богатым человеком и тщательно прятал все эти сокровища в предгорьях Восточной пустыни. Поскольку походы в пещеру часто на целый день уводили меня из Храма, среди жрецов, занимавших в Храме высокие посты, поползли разговоры о моей лени при исполнении обязанностей. Уверяю, я никогда не трудился более напряженно».
«Но зачем, — спросил Птахнемхотеп, — было хоронить такое богатство?»
«Я твердо намеревался, — ответил Мененхетет, — насладиться этими сокровищами в своей третьей жизни».
«У тебя были такие мысли? Ты ничего нам об этом не рассказал».
«Собственно, много что можно еще добавить. Видите ли, я влюбился — как это могло случиться лишь со жрецом — в одну из самых известных блудниц в Фивах, в женщину, чья красота намного превосходила ее очарование, но тогда я вряд ли знал, как следует искать женщину. С другой стороны, многое вспомнилось мне из того последнего часа с Нефертари. Чем больше я размышлял об этом событии, тем более убеждался (основываясь на том, что смог вспомнить о любовном опыте своей первой жизни), что моего первого повторного рождения не должно было произойти. Я стал считать, что мне очень повезло. Если бы меня не ударили ножом в тот исполненный страха миг, когда я с трудом извергся, ничего бы не случилось. Без того потрясения я никогда не смог бы зачать себя — нет, только не в тот лишенный вожделения миг! Итак, если я собирался жить снова и наслаждаться своей третьей жизнью — а теперь это было моей целью, — тогда я должен был не только познать искусство любви, но также проникнуть в тайны озноба и оцепенения извержения. Будучи жрецом, до тех пор я знал о них лишь посредством руки либо по повергавшим меня в смятение жреческим шалостям. И вот я пошел на обучение к той самой прекрасной и дорогостоящей шлюхе. Звали ее Небуджат, и если согласно одному из значений ее имени она была золотым глазом Богов, то согласно второму — золотой отверженной, и оба этих имени принадлежали ей так же, как Две Земли принадлежат Египту, ибо она вскоре узнала, где я хранил свои сокровища, хотя я ей об этом никогда не говорил. Возможно, я выдал их местоположение, разговаривая во сне, либо ей было известно достаточно, чтобы проследить за моими походами в пустыню, но как бы то ни было, мои планы, что в своей третьей жизни я вспомню, где спрятаны мои сокровища, пошли прахом, поскольку сразу же после моей смерти она нашла ту пещеру. Ко времени, когда я достаточно повзрослел, чтобы оглядеться в своей третьей жизни, Небуджат истратила все».
«Все знают, как шлюхи умеют тратить деньги, — сказал Птахнемхотеп, — но ясно ли ты помнишь, как тебе удалось свершить это во второй раз?»
«Не знаю, смогу ли я понятно объяснить».
«Ты сделаешь усилие», — мягко сказал Птахнемхотеп.
«Я попытаюсь. — Мененхетет закрыл глаза, собираясь с мыслями. — Поскольку я был зачат в ночь, когда мой отец знал, что его убьют, будьте уверены, что тот же страх присутствовал в каждом обряде, который я отправлял, будучи жрецом. Конечно, в этом состояла суть моего благочестия. Может быть, именно поэтому мои благоговейные обряды были столь упорядочены и серьезны. Я остро чувствовал едва уловимое присутствие смерти во всем, что делал. Неудивительно, что когда я ощутил в себе эту жажду всех плотских радостей, то очень скоро превзошел свое невежество в искусстве любви, поскольку и оно — обряд, требующий совершенного почтения. И вот я снова научился, как это было с Ренпурепет, мешкать часами и бродить по краю. Я мог вбирать в себя все богатство и мерзость, блеск и отвращение, стон и величие, что пребывали в Небуджат, и все же не изливать себя в этот тяжкий миг на все ее воровство и разврат, чего просила у меня ее кровь, да, при этом я мог втягивать семь ее душ и духов в мои чресла и далеко вверх — прямо
в сердце, покуда жизнь моя не становилась не просто призрачной, но все более и более похожей на тончайшую нить. Все во мне, что не пребывало в ней, становилось готовым к выходу из моего тела и вхождению в мой Ка. В такие моменты я знал, что мне стоит лишь оборвать нить между своим телом и моим Ка, эту серебряную нить — так я видел ее с закрытыми глазами, — и я умру. Мое сердце разорвалось бы в момент извержения. Не могу сказать, — как много ночей я парил на этом краю. И все же я всегда возвращался. Мне слишком нравилось это наслаждение, чтобы отказаться от него. И я никогда не рвал серебряную нить, соединявшую мое тело с семью душами и духами, нет, до той ночи, когда она предала меня.