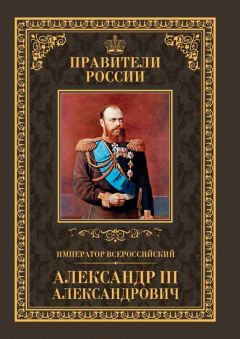Николай хотел взять Аликс на руки и нести её, как носил в молодости. Но Александра, прочитав его мысли по глазам и увидев осклабившиеся в издевательских улыбках физиономии одних солдат, жалостливое выражение лиц других, проявила пуританскую стойкость своего характера.
– Не надо, Ники! – вполголоса, но твёрдо сказала она. – Я дойду! Дай только твою руку, я обопрусь на неё…
Царственно прямая и гордая, под руку с Государем, Императрица лёгкой, словно в молодости, походкой прошла к международному спальному вагону, предназначавшемуся для Семьи и маленькой группы придворных.
На востоке всходило большое красное солнце. В его лучах горели пурпуром красные буквы на белом полотнище, укреплённом на борту вагона. Они объявляли: «Миссия японского Красного Креста». Над тамбурами слабо шевелились под утренним ветерком флаги Страны восходящего солнца с круглым красным символом небесного светила.
Поезд Миссии японского Красного Креста мчался на восток. Сразу за ним, словно совсем недавно – свитский, следовал состав с батальоном стрелков, назначенных охранять царя. На больших станциях не останавливались, и по требованию коменданта пассажиры вынуждены были завешивать окна, так что невозможно было увидеть людей, вокзалы, прилегающие улицы… По вечерам поезд останавливался на час-полтора в чистом поле, чтобы пассажиры могли немного размяться.
Николай хорошо знал географию своей страны. Но и он только по косвенным признакам узнавал, что проехали Вологду, Вятку, Пермь, Екатеринбург… Когда перевалили Урал, воздух стал значительно холоднее. Перед Тюменью поезда еле-еле тащились, чтобы прибыть к половине двенадцатого ночи на пристань, откуда пароходами по Туре и Тоболу надо было пройти до губернского центра Тобольска ещё добрых три сотни вёрст.
Пока под полом вагона стучали колёса поезда, мысли Николая разбегались. Он то разговаривал с Аликс, то давал Алексею краткие уроки географии и истории тех мест, по которым пролегал их путь. Неизбежная дорожная суета, так непохожая на размеренный ритм жизни в синих, с золотыми орлами вагонах Императорского поезда, не давала ему сосредоточиться. Он был на несколько дней оторван от газет и агентских листков, от слухов, которые регулярно кто-либо из друзей или слуг приносил в Александровский дворец в минувшие пять месяцев заточения. Теперь, в вагоне поезда, постепенно проходила острота ощущений от долгого нахождения рядом с непредсказуемым и одержимым революционным сумасшествием Петроградом, откуда в Царском Селе постоянно ждали какой-то угрозы.
Покинув заточенье Александровского дворца для ссылки в далёкий Тобольск, Николай стал часто вспоминать встречу с «корнетом Петей» у поленницы и ещё с одним офицером – Марковым, приходившим от другой группы военных, собравшихся также организовать тайный отъезд Семьи через Эстляндию. Царь не жалел, что не дал согласия на позорное бегство из России. Хотя теперь, спустя несколько месяцев после тех предложений, становилось ясно: почётное освобождение верными воинскими частями явно отдалялось хотя бы потому, что самые мужественные и честные военачальники вроде графа Келлера отказались присягать Временному правительству и были уволены в отставку. Организовать войска и народ было попросту некому. Император с ужасом начинал осознавать, что ложь и клевета в адрес Аликс и его собственный заразила сознание столь многих порядочных людей в России, что рассчитывать было почти не на кого. Он начинал ощущать страшное одиночество.
очью, после молитвы на сон грядущий, когда он закрывал глаза на верхней кровати своего купе, из шумов, возникавших от движения поезда, в глубинах памяти вдруг слагалась сцена пьесы дяди Кости «Царь Иудейский» и звучали слова саддукея, так подходившие к теперешней жизни. Ведь библейский саддукей, как и Керенский, принадлежал к правящей касте общества, и он учил злу заговорщиков против Иисуса Христа – фарисеев, производивших большое впечатление на чернь:
И эта же толпа, за Ним сегодня
Бежавшая как за своим Царём,
Боготворившая Его, поверит
Посмевшим осудить её Мессию
И будет казни требовать Его…
«И будет казни требовать Его…» – этот рефрен стал назойливо преследовать Николая при чтении газет, при виде расхлябанных и недисциплинированных солдат, окружавших его Семью, горел в глазах прапорщиков-тюремщиков… Только когда пассажиры поезда под японским флагом ступили на палубу парохода «Русь», стоявшего у пристани в Тюмени, и разместились в каютах, отдалённо напоминавших любимый «Штандарт», трагический рефрен на время отступил.
Рано утром караван судов, в середине которого шёл пароход с Семьёй и приближёнными «полковника Романова» на борту, отправился вниз по реке Туре.
Палуба парохода чуть дрожала в такт ударам колёсных плиц о воду. День был серенький, но приятный. Николай воспользовался относительным простором палубы, чтобы бесконечно мерить её шагами в течение долгих часов.
В середине дня на низком берегу издалека, за много вёрст, показалось большое село. Изгибы реки то приближали, то вновь отдаляли пароход от него. Село вольно раскинулось на берегу Туры вдоль знаменитого Сибирского тракта, который здесь особенно близко подходил к реке. Александра вдруг встала из своего кресла и подошла к леерам.
– Ники! – тихонько позвала она мужа. – Ты знаешь, ведь это Покровское, родина нашего дорогого Григория… Здесь, в этой реке, он ловил рыбу… Ты помнишь, он присылал нам свежую рыбу в Царское Село?.. Мир праху его, Божьего человека!.. Царствие ему Небесное!..
Слёзы показались на глазах Аликс, она сотворила крестное знамение. Николай подошёл и обнял её за плечи. Государыня всхлипнула. Потом превозмогла себя и вспомнила важное:
– Ты знаешь, Ники, ведь наш Друг предсказал, что мы обязательно побываем здесь и увидим его родину… А ещё он говорил Ане перед своей смертью: «Бог предназначил мне высокий подвиг погибнуть для спасения моих дорогих Государей и Святой Руси…»
Аликс тихонько заплакала, не желая привлекать внимание солдат охраны, толпившихся на корме. Сквозь слёзы она вглядывалась в открывающуюся панораму села, стараясь отыскать избу Григория Ефимовича по описаниям Ани Вырубовой, которую когда-то сама отправила с несколькими приятельницами в Покровское к Старцу, чтобы убедиться, праведную ли жизнь он ведёт. Это было нетрудно. Над крепкими избами и дворами сибиряков возвышалось только одно большое двухэтажное строение скорее городского, чем деревенского образа.
– Вот там его дом… – вдруг протянула она руку в сторону добротного особняка неподалёку от церкви.
– Царство ему Небесное!.. – перекрестился Николай. Застарелое чувство оскорблённого достоинства и обиды на клеветников вновь поднялось в нём. Вздорные россказни о том, что государственные дела решал не царь, а мужик, оказались и теперь, на шестом месяце революции, ядовитейшим оружием, которым изменники продолжали отрывать народ от Государя.
Село Покровское осталось далеко за кормой, а Николай, неутомимо шагая по палубе взад и вперёд, продолжал раздумывать о Друге, чудесным образом излечивавшем Алексея, о ненависти, которую этот мужик вызывал к себе у вельмож и некоторых многогрешных иерархов Церкви, о его мученической смерти… Его размышления постепенно перешли на то, что напрасно он так часто игнорировал добрые советы Александры, из которых некоторые, как он понимал, были навеяны Другом, черпавшим их из глубин народного разума.
«Да-а… В апреле 15-го года Александра писала мне, ссылаясь на мнение Григория, что не надо созывать Государственную думу… – припоминал он. – Я её созвал – и что получил в ответ от «народных» представителей?.. Крамолу и подкоп под правительство… В ноябре Аликс сообщала о том, что Друг советует начать наступление около Риги… Но я не стал приказывать этого Алексееву, хотя позже выяснилось, что был бы полный успех и можно было отодвинуть немцев далеко на юго-запад… Наверное, напрасно я обижал Александру, отвечая в письмах на её беспокойство, что «мнения нашего Друга о людях бывают иногда очень странными» и что «ответственность несу я и поэтому желаю быть свободным в своём выборе». Слишком во многих кандидатах на высокие посты я ошибался более, чем она… Что хорошего дала эта моя «свобода выбора», когда я, вопреки мнению Аликс и Друга, назначил обер-прокурором Синода скотину Самарина, который тут же стал вредить нам?! Товарищем министра к Протопопову – Курлова, а не князя Оболенского, как она рекомендовала?! Не учёл я, к сожалению, и советов Аликс взять в министры финансов графа Татищева, а военным министром – генерала Иванова… Может быть, измена тогда не так быстро смогла бы развиваться и я успел бы её предотвратить?!. А главное, конечно, – я не добился претворения в жизнь трёх важнейших вопросов, которые Аликс ещё с начала 16-го года постоянно ставила в своих письмах: введения военного положения на транспорте и военных предприятиях, когда за саботаж и забастовки организаторов предали бы военно-полевому суду, как во Франции и Англии; недосмотрел за налаживанием продовольственного снабжения Петрограда; вовремя не начал карать и удалять изменников, начиная от Гучкова и Алексеева… Если бы я, вместо попыток установления согласия с Думой, которая, как оказалось, этого согласия вовсе не хотела, – с горечью пришёл к выводу Николай, – завёл бы, как Иван Грозный, опричнину или, как прадедушка Пётр Алексеевич, Розыскных дел Тайную канцелярию, разумеется, без пыток и казней, но с тюрьмой и ссылкой для изменников великих князей, аристократов и думских подстрекателей к бунту, – смог бы я тогда сохранить самодержавие нетленным и передать Великую Россию своему Наследнику?..»