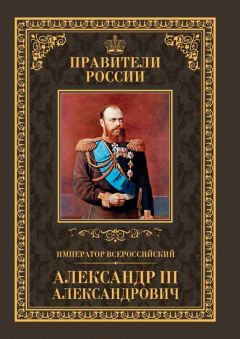Николай даже остановился посреди палубы, словно натолкнувшись на препятствие, – так эта острая мысль обожгла его. Задумавшись, он потёр виски, и, когда отнял ладонь ото лба, запоздалый ответ пришёл к нему: «Да!.. В самом начале войны надо было главарей «общественности» и весь Дом Романовых, всю аристократическую чернь, продажных журналистов, брать в ежовые рукавицы… Когда патриотический накал был высок, когда народную массу не поразили ещё бациллы революционной чумы, можно было предотвратить смуту и бунты. Да!.. Если бы я тогда раздавил этих гадин – Гучкова, Родзянко, Николашу с его «чёрными галками», не возвысил бы своими руками изменников Рузского и Алексеева, Россия избежала бы той «великой бескровной» революции, за время которой матросня и солдатня убили тысячи офицеров, боевики-социалисты – десятки тысяч полицейских, чиновников и других ни в чём не повинных людей, виной которых было только то, что они были одеты в форму разных царских ведомств!.. Господи! Почему Ты не наставил меня на прямой путь спасения моей Родины?!»
В Тобольске Семью поселили в доме бывшего губернатора, а свитских и персонал – в доме богатого купца на другой стороне улицы. Революционные веяния ещё совершенно не затронули этот богатый купеческий центр, стоявший на перекрёстке сибирских торговых путей.
«Прекрасно можно было бы жить и здесь, дожидаясь, когда пройдёт затмение в мозгах народных и в стране наступит не «революционный», а человеческий и Божеский порядок… – думал Николай в первые дни сибирской ссылки. – Но зачем всё время вводятся новые ограничения в передвижениях и снабжении всем необходимым?!. Какое свинство читать наши письма!.. Ограничивать в расходах наших собственных денег! Разрешать нам ходить в церковь только к ранней заутрене, и то – под охраной цепи солдат, как будто мы из церкви побежим в разные стороны! Как подло, что нас не пускают к обедне и вечерне!.. Даже помолиться толком не дают!..»
Особенно тяжко показалось сначала отсутствие простора. Тюремщики оставили Семье для прогулок только маленький огород и двор, который устроили, окружив забором отрезок малопроезжей улицы возле дома губернатора. Но и там члены Семьи всё время оставались на глазах у солдат, чья казарма на холме около особняка господствовала над всем прилегающим пространством.
Недостаток пешей ходьбы Николай возмещал энергичной работой на огороде. Она доставляла ему истинное удовольствие.
Комендант полковник Кобылинский, зная страсть Николая к пилке дров как к физическому упражнению, приказал привезти берёзовые брёвна, купил пилы и топоры. Это сразу сделалось одним из самых популярных развлечений узников губернаторского дома. Даже великие княжны пристрастились к новому для них спорту.
Газеты, русские и иностранные, выписанные Государем, приходили сюда на шестой день. Но читать их было исключительно противно – дела в стране и на фронте шли всё хуже и хуже. Просматривая страницы полудюжины изданий, кричащих «Свобода!!! Свобода!!! Свобода!!!», Николай видел, как он был прав, когда отказывался отдавать власть бестолковым думским говорунам, неизвестно перед кем «ответственным». Всё чаще ему приходило на ум, что истеричные обращения к нему генералов и Родзянки в Могилёве были только шантажом и угрозами несостоятельных, но амбициозных и лживых политиканов.
Ещё в апреле, развалив армию, ушёл в отставку военный министр, безответственный дилетант Гучков, менялись и другие фигуры, только Керенский набирал себе министерские портфели, а государственная власть слабела и разваливалась. Чувство досады на себя от того, что не разрешил верному Нилову в Пскове пристрелить на месте Рузского и поднять по тревоге Конвой, всё больше стало сверлить его душу. Только молитва и растущее упование на Бога приносили ощущение успокоения и смирения. Александра ещё более него погрузилась в глубины Веры. Она писала матери одного из раненых, с которой познакомилась в царскосельском госпитале:
«Больно, досадно, обидно, стыдно, страдаешь, всё болит, всё исколото, но тишина на душе, спокойная вера и любовь к Богу, Который Своих не оставит и молитвы усердных услышит, и помилует, и спасёт.
…Бог выше всех, и всё Ему возможно, доступно. Люди ничего не могут. Один Он спасёт, оттого надо беспрестанно Его просить, умолять спасти Родину дорогую, многострадальную.
Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней всё переживаем. Как хочется с любимым больным человеком всё разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной.
Чувствовала себя слишком долго её матерью, чтобы потерять это чувство – мы одно составляем и делим горе и счастье. Больно она нам сделала, обидела, оклеветала… но мы её любим всё-таки глубоко и хотим видеть её выздоровление, как больного ребёнка с плохими, но и хорошими качествами, так и Родину родную…»
Осень в Тобольске выдалась отличная. Стояла по-летнему тёплая погода, изредка шли дожди, а когда выпал снег, то наутро растаял при температуре плюс десять. Но вечера становились всё длиннее и темнее. В один из самых глухих и промозглых, когда ленивые охранники стучали деревяшками шашек в караульном помещении, на второй этаж губернаторского дома, где были личные апартаменты Семьи, неслышной тенью проскользнул со двора чужой молодой солдат со светлой курчавой бородкой.
Татьяна как раз выходила из гостиной своей Mama и чуть не столкнулась с ним. Солдат сначала отступил в тёмный угол, а потом вдруг позвал удивительно знакомым голосом, явно имеющим право на простое обращение с великой княжной:
– Татьяна Николаевна!..
Татьяна чуть не вскрикнула. В грубом и неэлегантном «нижнем чине» она узнала милого её сердцу «корнета Петю». Он прошептал ей: «Тс-с-с!» – и она поняла, что он пришёл тайно, хоронясь от охраны, как тогда, в Александровском парке, к Papa. Она сначала оглянулась, чтобы убедиться в том, что никого посторонних нет, а потом потянулась к нему и протянула для поцелуя сразу обе руки.
«Солдат» стал целовать их, а Татьяну пронзила щемящая радость вновь увидеть и коснуться своего милого. Словно почувствовав что-то, из комнаты вышел Государь и остолбенел, заметив странную сцену. Дочь отпрянула от Петра к отцу и только прошептала ему:
– Это Петя!..
Николай сразу всё понял. Он открыл дверь в гостиную, где сидела за вязаньем Императрица, и пригласил Петра:
– Добро пожаловать!
От удивления Александра Фёдоровна даже поднялась со своей кушетки, моток шерсти свалился с её колен и покатился к Петру. «Солдат» галантно поднял его и подал царице. Александра Фёдоровна широко открыла глаза на гостя и от всей души сказала ему:
– Господи! Как я рада видеть вас здесь!
Государь пригласил его сесть, и Татьяна села на тот же диван, что и Пётр, но не совсем рядом с ним. Императрица демонстративно не заметила столь явного нарушения приличий.
– Как ты добрался? – спросил Николай Александрович.
– Не от Тюмени, – пояснил Пётр. – Там устроены засады против всех, кто едет к Вам… Я приехал по Сибирскому тракту со стороны Омска и Усть-Ишима, откуда противник меня не ждал…
Он широко улыбнулся, радуясь, что достиг своей цели в Тобольске. Но сразу же посерьёзнел:
– Я должен предупредить Вас, Ваши Величества, что в Тюмени сидит некто Соловьёв, муж Матрёны Распутиной, которому Ващи враги поручили перехватывать всех, кто едет к Вам в Тобольск на помощь…
– Не может быть!.. – прервала его царица. – Чтобы родственник Святого человека был заодно с предателями России!.. Не поверю!..
– Мои друзья в Петрограде сказали мне, что Соловьёв присвоил большую сумму денег, которую Вам послала Анна Александровна Вырубова… Она узнала о том, что Временное правительство ограничило Вас в расходах на стол и персонал, и ещё до своего отъезда в Гельсингфорс направила через Соловьёва несколько десятков тысяч рублей… Мне сказали, что Вы ничего не получили… – настаивал на своём Пётр.
Николай кашлянул, а Татьяна незаметно толкнула Петю локтем в бок.
– Не поверю… – уже не так решительно сказала Государыня, а Николай Александрович перевёл неприятный для Аликс разговор на другую тему.
– Какие новости в Петрограде? – осведомился он.
Пётр добросовестно изложил царю всё, что знал о развитии событий. Закончил он свой обзор предположением, что секта большевиков готовит новый переворот, который, наверное, будет успешным из-за того, что толпа потеряла веру во Временное правительство и болтуна Керенского.
Царю очень хотелось спросить свежего человека о том, как теперь народ и крестьянство относятся к нему, низложенному монарху. Однако он постеснялся спросить об этом прямо.
Зато получил косвенный ответ на него, когда Пётр сообщил, что его друзья-офицеры всё-таки хотели бы освободить Семью из заключения и вывезти её через Владивосток или Китай в Японию, а потом и в другое какое-нибудь дружественное государство.