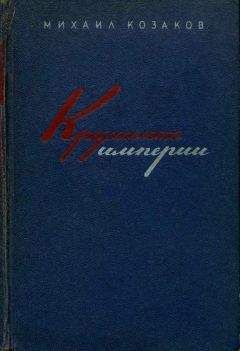«Прекратить стачку? Теперь прекращать… после всего того, что уже произошло в городе? Идиот!..»
Он зло и презрительно смотрел на Черномора, распинавшегося в защиту этого предложения.
Уже не борясь, что обычно делал, со своим латышским акцентом, горячась и каждую минуту перебивая своих противников, что тоже раньше за ним не наблюдалось, Ян Янович Озоль-Черномор стучал кулаком по столу и говорил:
— Льется рабочая кровь… Это вам не сироп… не сироп, да! Царизм, вы замечайте, вводит в дело войска, казаков, жандармов. Царизм радуется… да, радуется, что представился такой удобный случай безнаказанно расстреливать наш рабочий класс. Генерал Хабалов знал, зачем объявил осадное положение. О, он знал-таки!.. Наши заводы были крепостями, которых царизм боялся, а теперь некоторые товарищи хотят… и генерал Хабалов хочет… чтобы мы, так сказать, вышли в открытое поле… и тут нас быстро перестреляют!.. Наша организация должна призвать рабочих к прекращению демонстрации!
— Меньшевикам пойди посоветуй! — кричали Черномору со всех сторон. — Там тебя качать будут…
— Очки сними — свет божий увидишь!
— И мы тогда ваши глаза, Ян, откроем, а то за стеклами не видно!
— Кто сказал? Кто сказал?.. Что это значит?.. Это очень плохо пахнут такие слова!
Плотный, приземистый, с выгнутыми по-змеиному, широкими, жесткими усами, Черномор бросался из стороны в сторону, упрямо пригнув голову, словно готовый прободать этими тяжелыми усами, как рогами, своего неузнанного обидчика.
— Товарищи! По-деловому, по-деловому надо, а вы тут подняли смотри что! И так времени нет… — старался успокоить всех Скороходов.
— Вот именно! Я и согласен, Александр Касторович, а получается что?.. — И Черномор уже примирительно повел плечами, ища защиты у Скороходова.
Но никто василеостровского кооператора не защитил. Решено было рабочие демонстрации продолжать, идти на открытый уличный штурм самодержавия, добывать оружие, брататься € войсками, — идти на восстание.
Чугурину и Василию Афанасьевичу поручили связаться с руководителями Русского бюро ЦК, с Молотовым и другими: как лучше формировать вооруженные рабочие дружины? Этот вопрос не был еще ясен. Черномора с двумя выборжцами отправили наладить мобилизацию кооперативных фондов, а несколько оставшихся товарищей — Скороходов, Ганшин, Громов и другие — засели составлять листовку с призывом к революционному восстанию.
Решено было перед тем как всем разойтись, собраться завтра, 26 февраля, рано утром на Сампсониевском и формировать там штаб выступления.
И назавтра, переночевав по рекомендации Скороходова в комнатушке какого-то маляра у Гавани, Андрей Петрович, сильно запаздывая, потому что приходилось пересекать весь город, пришел к назначенному месту на Сампсониевский. Однако, наученный опытом долголетней конспирации, желая убедиться, нет ли слежки за домом и прибывающими в него, Андрей Петрович прошел мимо дома, быстро ловя глазами людей, которые могли показаться почему-либо подозрительными. Но никто и ничто как будто не внушали опасений.
Дойдя до церкви, он повернул обратно.
Его обогнали два закрытых военных автомобиля.
Непроизвольно следя за ними, Громов увидел издали, как обе машины, словно по команде, уменьшили в какой-то момент свод ход и, описав дугу поворота на мостовой, остановились у подъезда того самого дома, куда он направлялся.
«Это еще что?»
Он перешел на другой тротуар, пробежал там некоторое расстояние, заскочил в ворота какого-то двора и в открытую калитку стал наблюдать за машинами.
Прошло не больше двух минут, как из подъезда дома выскочил высокий, шинель нараспашку, жандармский офицер, за ним — жандармы с револьверами в руках и — окруженные ими — человек восемь в штатской одежде. Громов узнал своих товарищей…
Он окаменел. Он неподвижно стоял на своем месте. Теперь уже он искал глазами в кучке арестованных одного человека. Ему хотелось бы, чтобы и «он» был там, — стало бы спокойней, несмотря на все испытываемое огорчение!
Но того человека, как и подумал минуту назад, не было.
— У-у, змея! — не сдержавшись, прошептал о ком-то Андрей Петрович.
К дому подкатила еще одна машина, и все три, наполненные арестованными членами ПК, товарищами из Выборгского комитета и сопровождавшими их жандармами, быстро умчались по проспекту.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Последний удар часов
Киев отставал. Часовая стрелка революции на киевском циферблате подвигалась медленно, готовая и совсем остановиться.
1 марта газеты не поместили ни одной телеграммы из столицы, но напечатали приказ главного начальника военного округа генерал-лейтенанта Ходоровича:
«В день кончины в бозе почивающего императора Александра Второго приказываю музыкантам, горнистам и трубачам — не играть и барабанщикам — не бить».
Было много снегу, — и полицеймейстер Горностаев особыми распоряжениями обязывал домовладельцев очищать трамвайные линии, тротуары и мостовые:
«Желающие для этой цели получить рабочих-военнопленных должны подать заявление в полицейский участок и уплатить вперед деньги по расчету 2 р. 50 коп. за девятичасовой рабочий день».
Было очень холодно, — и комендант города генерал-лейтенант Медер обязал население к сбору одеял для замерзавших на вокзале увечных русских воинов, тысячами пересылаемых с линии фронта.
И в этот мартовский вьюжный день, когда воспрещено было играть трубачам и горнистам и в барабаны бить барабанщикам, в свистящий вой южной метели, закружившейся над городом, вползли, как приглушенный трубный глас, как едва слышный, неясный барабанный бой, — вползли слухи о неожиданных событиях в северной столице…
И тем, кто не верил этим слухам, предлагалось высунуть нос из квартиры и поглядеть на улицы — на опустевшие, засыпанные снегом киевские улицы: маршировали по ним части гарнизона, объезжали город казачьи патрули, и грелись у костров на углах усиленные наряды городовых в желтых башлыках.
Можно было подумать, что власти нашли лучший из всех способов бороться с метелью: винтовки, пики и шашки.
Еще только вчера Георгий Павлович Карабаев жил той жизнью, которой привык жить. Еще только вчера утром посетил он собрание Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом которого недавно стал.
— Мы теперь — все равно что фальшивомонетчики! — шутя говорил он, вернувшись домой. — Благодаря стараниям крикливой прессы население так и смотрит на нас: фальшивомонетчики и мародеры…
Он повторял то, что утром слышал от председательствующего — старика миллионщика графа Бобринского. Черносотенный граф брал под свою защиту сахарозаводчиков-евреев Доброго, Бабушкина и Гепнера, арестованных недавно военными властями за крупную биржевую спекуляцию.
Жену и Теплухина Георгий Павлович считал нужным держать в курсе промышленных дел.
— Площадь посева свекловицы с семисот семидесяти одной тысячи десятин сократилась до пятисот семнадцати. Бобринский, — о, он большой знаток этого дела, — Бобринский утверждает, что при среднем урожае свеклы мы получим всего шестьдесят семь — семьдесят миллионов пудов сахару, а стране и армии нужно свыше ста миллионов пудов… Разрешен ввоз из-за границы двадцати миллионов. Это чепуха! Откуда и как вы их изволите ввезти? Предполагается также снять запрещение с сахарина.
— Боже, кто такой пакостью будет пользоваться? — поморщилась Татьяна Аристарховна.
— Будут, — спокойно сказал Карабаев. — А ты его когда-нибудь пробовала? — добродушно-насмешливо спросил он жену.
— Нет… что ты, Жоржа! Но я слышала…
— Слух — это не вкусовое ощущение, как известно, — продолжал он насмехаться. — Я бы посоветовал кое-кому заняться этим делом, сахарином… Не правда ли? — загадочно посмотрел он на Ивана Митрофановича. — Надо учесть, а то учтут другие. Вы можете проявить самостоятельность, друг мой, и не пожалеете, — давал он деловой совет своему смышленому помощнику. — Но главное, господа, надо расширить площадь посева. А для этого владельцы заводов должны быть уверены, что получат и необходимое топливо — минеральное топливо, и необходимые рабочие руки, хотя бы желтый китайский труд, и это непременнейшее условие! — справедливые государственные цены на сахар, которые оправдают наши расходы. А покуда у нас — бессмысленные преследования промышленников!
— Смешно, Жоржа! — сказала вдруг Татьяна Аристарховна. — У тебя теперь свой собственный сахарный завод, а мы покупаем сахар в магазине… и это совсем не дешево, Жоржа!
— Логика!.. — вспомнил иронически-добродушно Георгий Павлович о жене, когда она вышла из комнаты. — Хорошо еще, что в своем кругу… Ох, женщины, — а, Иван Митрофанович? Когда женщина имеет дар молчать, она обладает качеством выше обыкновенного!