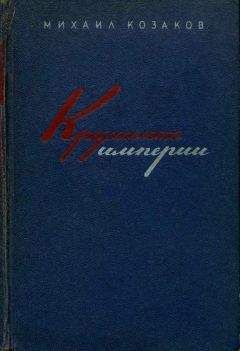Опытным глазом всмотрелся на минуту генерал-майор в этого распоряжавшегося всеми человека, снял мысленно шапку с его головы, содрал усы и клинообразную вялую бородку с лица, — и тогда вдруг, улыбнувшись своей собственной догадливости, сказал:
— Вот вам мое оружие: ничего, кроме маленького браунинга… А я вас все-таки знаю, господин социал-демократ Громов!
— Скажите пожалуйста, какая знаменитость я!.. Откуда же это? — не скрыл удивления тот.
— По фотографиям, господин социал-демократ. Только в нашем альбоме вы без всякой растительности.
— Товарищи! — распоряжался Андрей Петрович, отбирая глобусовский браунинг. — Обыскать тут все, караульных — во все комнаты! Что сожгли — то пропало, а больше не сметь!.. Ваня, возьми на себя это дело. Ты, братишка, — схватил он за рукав какого-то рослого солдата с бородой в цыганских кудряшках, — давай охрану человек двадцать да ведите генерала в зоологический.
— Куда, изволили сказать? — встревожился Глобусов. — Почему же… в зоологический?
— Очень просто: в Думу, в гости к Родзянко пока, а там — посмотрим! Свозят туда зверье всякое. Нравится?
— Что ж, мерси, — вздохнул облегченно генерал-майор, разглаживая дрожащей рукой пробор на своей напомаженной голове. — Мерси… Вы не поедете со мной, господин Громов?
— И без меня найдутся провожатые. Счастливый путь, господин генерал!
25 февраля, темным рассветом, Андрей Громов, уцелевший по счастливой случайности от ареста в альтшуллеровской типографии, покинул свое последнее убежище на Гусевом переулке, и направился в Лесной.
Ранним утром постучался он в квартиру рабочего завода «Парвиайнен» — Василия Власова. Хозяин уже был одет и поджидал его.
Если бы остался в живых студент-прапорщик Леонид Величко и увидел громовского товарища, он признал бы в этом хозяине квартиры того самого рассудительного рабочего, который в свое время руководил забастовщиками на Чугунной улице и предотвратил их ненужное столкновение с третьей ротой прапорщика Величко.
Как и тогда, Власов был в черном, до колен, ватничке, на голове — финская, с кожаным верхом, шапка, вокруг шеи — дважды обмотанное гарусное кашне. Серо-пепельные мягкие усики и вьющаяся мелкими колечками от висков нежная бородка на малокровном лице Власова были хорошо знакомы рабочим «Парвиайнена» и многим в Выборгском районе.
— Маршрут? — кратко спросил Громов, когда, хлебнув пустого чаю, вышли на морозную улицу.
— Завод, демонстрация. Потом. — на явку: там наш, выборгский, и кое-кто, наверно, из ваших пекистов.
— Распоряжаетесь… Ну, ну, распоряжайтесь, распоряжайтесь, Василь Афанасьич, приказывайте, кренделя выборгские! — в шутку бранился Громов.
— А вы бы своих, Андрей Петрович, берегли получше, — мы бы, выборжцы, и не распоряжались. А теперь, товарищи-судари, извольте слушаться! — в том же тоне отвечал Власов. — У нас это дело, ей-ей, крепче, выходит.
— Ну, ну, помогай чертов бог, мы ему потом спасибо скажем, Василь Афанасьич. А почему «крепче выходит»?
— Беспорядку нет. Туман не бывает.
— Что хочешь сказать?
— А то и, скажу! — оглянувшись на ходу, неожиданно горячо повысил голос Власов. — Ты вот послушай да покумекай, член ПК… Позвали меня на заседание к вам. Три недели назад, когда еще в сохранности был ПК. «Хорошо, говорю, обязательно: есть у нас большой разговор насчет сбора оружия. Явка, спрашиваю, где?» — «Про явку, отвечают, не беспокойтесь: явку узнаешь на Васильевском, в кооперативе, у Черномора — Озоль он, говорят, тебя знает, давно тебя не видал, говорил он нам, рад будет встретиться, вот ты к нему и приходи». Ладно! Прихожу к нему, обрадовались друг другу, — верно, годика два не видались. Повел меня. Петли в городе сделали. «Куда идем?» — спрашиваю. «На Кронверкскую». Дом не называет. Ну, что долго рассказывать?.. Он меня раза четыре водил! От дворца Кшесинской по Большой Дворянской, потом по Каменноостровскому взад и вперед — до этой самой Кронверкской улицы, — туда и обратно, туда и обратно! Ну, равно так шпикам новичка показывают, ей-богу! Я бы так и по думал, Андрей Петрович, кабы не слыхал раньше про Черномора. А он утешает меня: «Фу, черт, говорит, номера дома и мне не сказали, только указали мне его, да теперь боюсь ошибиться». Куда это годится, Андрей Петрович, такая организация дела? Никуда, товарищи, не годится, — факт!.. Пошел он один распознавать тот дом, оставил меня на улице. Да и пропал куда-то! Видал, какое дело? Наконец, я освирепел, понимаешь, и, чтобы не мозолить никому глаза, пошел восвояси. Так и не попал тогда на ПК.
— А Озоль был, — врастяжку, задумчиво сказал Андрей Петрович, выслушав рассказ товарища.
— Про меня ничего не говорил? — полюбопытствовал Власов.
— Мы спросили, как же!.. Затерялся, — он про тебя говорит, — на улице. Видишь: затерялся!
— Дурак он собачий! — тихо выругался выборжец. — Вот я ему сегодня, коли будет, напомню.
— А ну-ну, — каким-то особым тоном сказал Андрей Петрович.
В пути они проходили мимо нескольких фабрик и заводов, и всюду в этот час у раскрытых ворот толпились рабочие, молчали фабричные корпуса, нигде не видно было заводской охраны. И, торопливо шагая мимо, Власов каждый раз оживленно говорил товарищу:
— Наши… Наши тут. Стачку держат какой день — а! Сегодня на демонстрацию ведут. А ты, брат, говоришь: «выборгские кренделя», — а!
На «Парвиайнен» пришли с небольшим опозданием. Митинг уже начался. В самой большой мастерской собралось около полуторы тысячи рабочих. Устроились где кто мог: на станках, на полуготовых изделиях, на стропилах — чуть ли не под самой крышей.
Выступать ни Власову, ни Андрею Петровичу не пришлось, да и не потребовалось: все говорившие звали к тому, о чем оба они думали, к чему вел призыв их большевистской организации.
Все слушавшие до единого поднялись с мест.
— Стачку не прекращать!
— На демонстрацию!
— Долой войну и правительство!
— Да здравствует революция, да здравствует свобода рабочих и крестьян!
— На восстание, товарищи!
— Долой капиталистов, дворян и помещиков!
Один из ораторов закончил свою речь стихом:
Прочь с дороги, мир отживший,
Сверху донизу прогнивший, —
Молодая Русь идет!
— Да здравствуют революционеры!.. Это есть, товарищи, российская социал-демократическая рабочая наша партия большевиков! — громко, раздельно крикнул кто-то со стропил, и снизу и с боков понеслось в ответ, прогрохотав по мастерской, долгое «ура».
— Видал? Слыхал? — крепко, до боли сжимал громовскую руку Василий Власов, и обоим казалось, что сердце рванется куда-то от небывалой радости и станет жить само по себе…
— Лозунг теперь стреляет, как пушка… как пушка, — взволнованно повторял Громов. — Эх, вот оно начинается!
«Оно» — это означало: долгожданная революция.
— Василий!.. Василь Афанасьевич!.. Василий!.. Староста! — заметили его только во дворе, и десятки голосов звали к себе Власова.
Вместе с Андреем Петровичем встал он в первый ряд густой, тысячной колонны, хлынувшей к выходу из завода.
Откуда-то появились красные знамена, какой-то парнишка-рабочий затрубил в принесенный из дому позеленевший, нечищеный корнет, — на парнишку прикрикнули — и затянули «Варшавянку» и с песней двинулись по Бабурину к видавшему виды, всегдашнему проспекту демонстрантов — Сампсониевскому. Здесь соединились с рабочими и работницами других заводов и фабрик, и вся многотысячная толпа направилась к Литейному мосту.
В пути встретили заставу какого-то кавалерийского полка.
— Не отступать! — прокатилось по всей толпе, и она, упрямо и мерно шагая, высоко подняв знамена и потушив на минуту голос песни, приближалась к отряду кавалеристов.
И таким же мерным и тихим конским шагом кавалеристы надвинулись на передние ряды толпы.
Демонстранты остановились, но не отступили.
Командир полка, пожилой офицер с коротенькими бачками и бурым следом волчанки на щеке, повернул голову к своим солдатам:
— Вперед!
И вдруг теперь — кони ни с места, кавалеристы в седлах застыли.
— Вперед!.. Вперед… — выкрикнул, а потом растерянно буркнул командир полка.
Но и он сам осадил своего коня и как-то неожиданно смешливо пожал плечами и покачал головой, откидывая ее назад.
— Ну что же… вперед! — совсем не по-командирски сказал он еще раз, и в рядах демонстрантов взлетел смешок первой завоеванной радости.
И тут выступили вперед женщины.
Они побежали из толпы к остановившимся кавалеристам, они перемешались с ними в конных рядах, хватались руками за стремена, протягивали руки к молчавшим солдатам и — кричали.
О чем?
О чем они должны были взывать и взывали?
Этот крик был один и об одном: