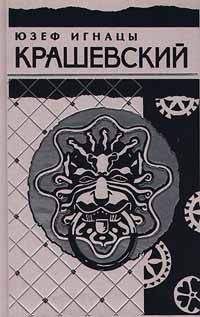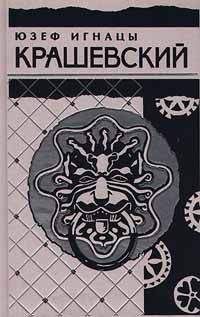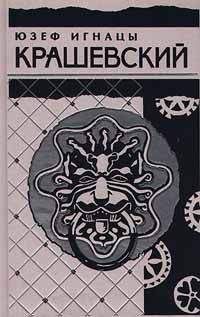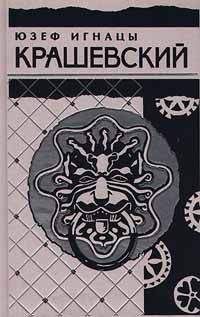Панцеринский, двоюродный брат известного нам свидетеля у Кошачьей-горы, происходил из бедной размножившейся фамилии, и своей сметливостью нажил себе известность и деньги, будучи равно жаден и к славе, и к богатству. Были разные толки о начале жизни пана Адама, но все соглашались в том, что он превосходил ученостью и искусством всех мазовецких юристов; что для него ничего не значило выиграть там, где другие и во сне не видели выигрыша, выкопать из-под земли давно забытые обстоятельства дела и дать совет в самом отчаянном положении. Он был подобен медику, к которому обращаются тогда уже, когда больной еле-еле дышит. Никто не употреблял его для своего дела, когда права были ясны и не стоило большого труда его выиграть; но в запутанных обстоятельствах, или при недостатке прав, без него невозможно было обойтись. Он никому ничего не делал даром, почти всегда требовал большой награды, торговался, как будто покупал грибы, но за то уж, если за что брался, то делал чудеса.
Секиринский с трудом отыскал в отдаленном конце местечка, над Вислою, его домик, в котором Панцеринскй жил уединенно, с одним только мальчиком, служившим ему переписчиком, поваром, слугою и кучером. Долго надобно было стучаться Секиринскому в дверь, пока отворил ее ободранный Янек; но слуга, не пуская пришедшего в сени, получил сперва плату, узнал об имени гостя, об его надобности, и потом уже, оставя его в передней комнате, отправился доложить своему господину в канцелярию.
Комната не выявляла богатства хозяина. В ней было только два сосновых стула, простой стол, кухонная печь и на стене потемневшее изображение Христа. Потолок был низкий, с перекладинами, дверь узенькая и приземистая, окна о четырех стеклах, а пол утоптанный земляной, посыпанный песком.
После минутного ожидания заскрипела дверь, и в комнату вошел Панцеринский — фигурка маленькая, шершавая, мизерная, за которую никто бы не дал трех грошей. Бросались только в глаза наблюдателю длинные руки, заканчивающиеся громадными костлявыми пальцами. Наряд его также был самый мизерный, так что Собеслав принял знаменитого юриста за другого Янка, и уже взялся было за кошелек, как вдруг это удивительное создание заговорило грубым, как будто из груди великана выходящим голосом.
— К вашим услугам, пан.
— Пан Адам Панцеринский?
— Да, да, он сам. Прошу садиться. А вы?
— Собеслав, — Секира Секиринский.
— Не Лонгина ли скарбниковича сын?
— Именно, пане добродзию.
— Я очень рад вас видеть у себя, потому что я уважал вашу фамилию заочно и был еще очень мал, когда ваш достойный родитель переселился из этого света. Чем могу служить вам?
Собеслав изложил ему все обстоятельства своего дела, подал ему бумаги и ожидал терпеливо, пока он их рассмотрит.
Панцеринский, пробежав их с непостижимою быстротой и узнав тотчас все сильные и слабые стороны предстоящей тяжбы, сказал:
— Все можно сделать, хоть не скрываю от вас, что с Вихулами тягаться мудрено. Они чего не сыщут судом, то станут добывать саблей, потому что не затрудняются выбором средства. Но волка бояться, так и в лес не ходить. Сделаем дело. Только вот какой казус, на Секиринке множество долгов; пойдут счеты новых построек, хозяйственных заведений, процентов и прочего, может быть придется заплатить больше, чем стоит сама деревушка. Не лучше ли купить другую?
— Я ищу Секиринка не потому, — сказал Собеслав, — что это деревня, а потому, что там находятся гробы моих предков, что это наследие моей фамилии, а, пожалуй, еще и потому, что им владеют враги мои, отравившие жизнь отца моего и сведшие его в могилу.
— Это дело другое, — отвечал Панцеринский, — если так, то мы завоюем Секиринок. — Но, — прибавил он, переменяя голос, — clara pacta ciaros faciunt amicos; хотя я и не могу его вполне приложить в себе, не имея права возвышаться вашей дружбы и будучи только вашим слугою. Надо нам сперва условиться о награде за мой труд. Я человек бедный и живу заработками.
— Дело, дело. Говорите ваши условия.
— Об этом надо подумать. Я явлюсь к вашим услугам завтра. Где вы живете?
— У Ицька Стекляра, на Варшавской улице.
— Так завтра, в девять часов. С тем они и расстались.
На другой день, лишь только часы на ратуше прогудели десять, явился к Собеславу Панцеринский, одетый немного опрятнее, но в ободранной бричке, которою правил Янек.
— Дело, — сказал он после вступительного разговора о погоде, — дело ваше мудреное, но я возьмусь за него, потому что не люблю пачкать рук из-за каких-нибудь пустяков. Человек живет для славы и для денег и не должен трудиться иначе, как за чистое золото; а за легкое дело кто золотом платит?
— Сколько же вы хотите?
— Минимум… тысячу талеров по окончании дела и ввод вас во владение Секиринком; а на издержки и разъезды особо, сколько будет по счету.
— Не буду с вами торговаться — сказал Собеслав, — хотя мне это кажется уже слишком много; но, с моей стороны, объявляю условием, чтобы дело закончить как можно скорее.
— Нет нужды заключать такое условие, — сказал юрист, — время у меня дорого; но с моей стороны есть еще условие.
— Еще условие?
— Одно только, и именно вот какое, чтобы вы, вверяя мне свое дело, вверили его вполне, чтобы вы без меня ничего не предпринимали, во всем держались моего совета и, словом, во всем, что касается до нашего дела полагались на меня.
— Согласен и на это.
— Итак, не теряя времени, потому что время дорого, даю вам вот какой совет: вы не безопасны от Вихул. Знаю, наверное, что вам готовят и будут готовить тысячи напастей, чтобы сбыть вас с рук каким-нибудь насилием. Одни вы своею особою против их шайки не устоите; надо вам тотчас же приискать себе несколько приятелей телохранителей, неотступных ангелов-хранителей, которые были бы готовы во всякое время взяться за саблю для вашей защиты.
— Где же мне найти их?
— Это уже мое дело. Я навербую их здесь в Черске с полдесятка и пришлю к вам. Но без них вы не должны делать ни шагу, ни здесь, ни в деревне.
Собеслав поблагодарил пана Адама за такую заботливость, хотя тут же подумал, что эти приятели дорого будут ему стоить, и много с ними будет хлопот. Но что делать!
Адвокат взял с собой бумаги, получил немного денег на первые расходы и тотчас, сев в бричку, поспешно уехал искать приятелей, с которыми советовал Собеславу отправляться в Черчицы и спокойно ожидать, как говорил он, felicem aventum его хлопот.
Через несколько часов послышался шум перед домом, Собеслав догадался, что приятели начинают собираться. Выглянув в окно, он в самом деле увидел двух плечистых серокафтанников, из которых один вел за узду коня, а другой шел с мужиком и парой лошадей позади, громко спрашивая о квартире пана Секиринского. Квартиру им указали; пара огромных верзил с шумом ввалилась в комнату, представляя один другого вельможному пану.
— Егомосць пап Урбан Паневка, ловчичевич вышгородский.
— Егомосць, пан Филоктет Процинский, обозникович закрочимский.
Пап Урбан, трехаршинный плечистый мужчина с усами, торчащими далеко за пределами физиономии, загорелый, как цыган, с морщинистым лбом, с пятнами на лице и с подбритой лысиной был одет в кунтуш из серого сукна, вытертый до ниток на плечах, обут в сапоги, залатанные без всякого лицемерия, и опоясан кожаным поясом с бляхой и сабелькой в кожаных ножнах. Он играл роль ловкого и учтивого кавалера, беспрестанно смеялся, кланялся, вставал со стула, церемонился на всяком шагу, при всяком выражении, но в глазах его было написано грубое буйство.
Пан Филоктет был немного ниже, но так плечист, что напоминал собою хорошо связанный сноп соломы. Этот господин не таил своего ухарства, широко размахивал руками, громко стучал каблуками, переставлял стул, стучал об пол, гремел всем, к чему только прикасался, и всего больше хлопотал о шляхетском достоинстве, не давая никому первенствовать перед собою. Он говорил мало, но сильно бранился и за каждым словом повторял «Ciumperdi», особенно когда он был кем-нибудь недоволен. Его обыкновенно звали Циумпердою и знали миль на шесть в окружности по той особенности, что он в течение дня мог выпить бочонок пива и, опорожня его, взять под руку, как фуражку, и выйти в добром здоровье и не спотыкаясь.
Едва эти господа уселись и деликатно намекнули о меде, который, по их мнению, должен быть у Стекляра отличный, как явился и третий, не такой уже видный, но тонкий, худощавый, смиренный, бледный, молчаливый, — как дерево, и беспрестанно складывавший руки так, как будто приготовлялся молиться. На нем было что-то похожее на капот гранатового цвета и охотничья сумка, у пояса висела сабля, которую он называл ножиком, а под рукой он держал небольшой узелок, который положил у двери. Он отрекомендовал себя, что он оседлый обыватель земли Вышгород-ской; потом сел тихо в уголке, окинул взглядом двух атлетов и, сложа руки, принялся прилежно рассматривать потолок. Что касается до господ Урбана и Филоктета, то они приветствовали его учтиво и даже дружески.