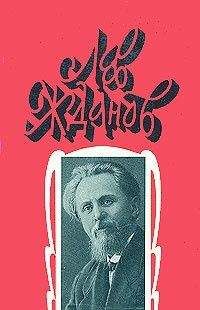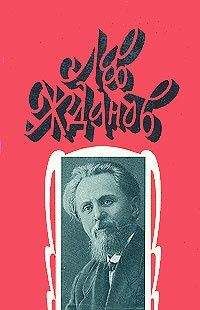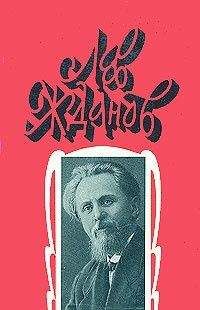И чистое пространство лежало перед батареями правого берега Вислы, как требуют правила стратегии…
Изгнанные из углов своих пражане, да и вообще весь простой люд Варшавы — совершенно иначе, по-своему посмотрел на дело…
Проклятия посыпались "панам", которые по злобе-де жгут жилища бедняков; а потом — гонят их из Ратуши, вместо обещанного вознаграждения осыпая бранью… Пошли дикие толки об "измене"… о том, что Варшаву продали потихоньку москалям и жгут своих, чтобы запугать народ. Толпы крестьян, приезжая на рынки, подхватывали самые нелепые слухи, верили им наравне с городской чернью… И тайно, медленно, но стойко назревало какое-то тяжелое брожение.
Да теперь же усилились грабежи и кражи, даже — убийства в самой Варшаве и окрестностях. Целые шайки озлобленных, полуголых людей бродили по дорогам, прятались в лесах, высматривали и нападали на крестьян, везущих в столицу припасы, даже на одинокие брички и нейтычанки шляхетных подгородных помещиков мелкой руки… Пришлось пустить усиленные патрули по улицам столицы, по окрестным дорогам…
Виселицы затемнели кое-где. На них закорчилось несколько преступников, изловленных и уличенных. Но кражи и грабежи не уменьшались.
Осталось одно утешение: требование стратегии было соблюдено. И никто не думал, что скоро, через каких-нибудь пять месяцев, разорение пражских нор, волнение местной черни даст жгучие, кровавые плоды, отзовется и в самой Варшаве.
Лучший из домов в Милосне, пана посессора Качковского, отведен для Дибича, расположившего свою штаб-квартиру в этом тихом местечке, в самом тылу передового корпуса генерала Гейсмара, резервы которого также были размещены в местечке и по окрестным выселкам.
Яркое зарево горящей Праги, высоко рдеющее над лесами, отраженное и темным ночным небом, и навесом тяжелых туч, было видно и здесь, в Милосне.
Фельдмаршал сильно обеспокоился сначала. Он знал, что его измученные отряды без приказа не могли начать никаких действий. Не слышно было пушек неприятельских, предвещающих нападение, посылающих как бы вызов перед поединком. Да и наступление поляков не объяснило бы появления зарева со стороны Варшавы. Или они жгут леса, рощи пригородные, чтобы лишить возможности русских укрываться там при новых атаках. Но леса теперь намокли, их нелегко разжечь. А зарево вспыхнуло сразу, сильно и широко…
Не мог угадать настоящей причины и очень волновался Дибич; позвал Толя.
Тот, вечно спокойный, уравновешенный и определенный, процедил:
— Что-нибудь там у этих безумных творится в Варшаве. Новая революция — и жгут город… Вот увидите… Прискачут наши донцы, засевшие на Сасской Кемпе… Они вам скажут. Право, нечего волноваться.
Пробормотал проклятие Дибич, забегал по низенькому зальцу.
— Potz Donner Wetter! [3] Будем ждать! — заговорил он по-немецки. — Вам, конечно, все равно. Не вы, генерал, отвечаете за исход кампании…
Толь промолчал.
Правда, скоро прискакали с донесением из казацких пикетов, которые залегли на берегу Вислы против самой Варшавы, совсем недалеко от моста, ведущего из Праги в Варшаву. Особенно далеко вперед для разведок подбирались они по ночам, ползая по земле и "снимая" зазевавшиеся польские пикеты.
— Так што, ваше сиясь, поляки сами Прагу ихнюю жгут! Подпалили с разных концов и жгут, — доложил коренастый рябоватый донец-ефрейтор, присланный с докладом.
— А, понимаю! — протянул Толь. — Хорошо, ступай!.. — приказал он казаку, который четко сделал оборот, сверкнув серебряной серьгой в левом ухе, и вымаршировал из покоя.
Обратясь к Дибичу, который, еще плохо понимая от волнения, багровый, отдуваясь, глядел на Толля круглыми, неподвижными глазами, последний продолжал методично:
— Нам же доносили: они спешно возводят батареи, строят укрепленный лагерь и верки под Прагой… А эти… деревянные домишки им помешали, вот и все… Правила обороны… Вот и все!
— Вот и все! Вот и все! Правила!.. А кроме наших правил — понимаете ли вы дух вещей, генерал?.. Мы ждали сегодня покорности! Ключей Варшавы! А они, извольте! Сожгли Прагу!.. Целый пригород… Тысячу домов…
— Нет… не больше пятисот, я полагаю…
— Вы полагаете… А этого — мало! Пятьсот домов!.. Potz tausend hundert Teufels!.. [4] Эти нищие полячишки жгут целые городки… Да еще после целой недели такой потасовки, которая им досталась…
— Нам тоже досталось порядком, надо сознаться, — вставил Толль, желая сильнее подразнить начальника, которого не любил.
— Нам!.. нам!.. нам!.. Что я, без вас не знаю, каково нам?.. Об этом бы надо было хорошенько подумать… и потолковать… А пока можете отдохнуть. После вчерашнего дня мы все заслужили небольшой отдых. Жаль, что в Петербурге думают иначе. Немало там есть у меня "приятелей", завистников, которые нашептывают, под выстрелами. Еще когда будут награды… А пока — мерзость, зависть, интриги… И даже здесь, вокруг меня, я знаю, есть господа, корреспондируют моим врагам… в Петербург. О, я хорошо знаю, Blitz und Donner! [5]
— Да? — прямо глядя в глаза Дибичу, перепросил Толь. — Интересно, кто бы это мог быть?..
— Не знаю… Наверное не знаю!.. А не то бы уж я… Прямо поставил бы вопрос: одному уйти, другому — оставаться… А пока не знаю наверное… не могу сказать, — не глядя на своего начальника штаба, проворчал фельдмаршал и протянул руку для прощанья. — Доброй ночи!.. Завтра еще побеседуем!.. Да, постойте… Когда послан государю доклад о гроховском и других боях?
— Немедленно, как только высочайший рапорт был подписан вашим высокопревосходительством… Со всеми дополнительными ведомостями… и доклад министру…
— Время, время, я спрашиваю… А не экипажи там разные…
— В семь часов сорок пять минут пополудни… Я сам присутствовал…
— Ах, сами?.. Ну, тогда, конечно… Хорошо. Благодарю! Очень я того! Знаете, эта проклятая неделя дает себя знать… А может быть, еще не хотите спать? Сигару, стакан вина… Пиво прекрасное мне здесь успели раздобыть. А?..
— Нет, благодарен, ваше высокопревосходительство! Я правда устал. И если позволите?..
— А!.. Ну, ну… С Богом, с Богом!.. Я вам очень благодарен!.. Доброй ночи…
Не успел еще Толь шагнуть за порог, как Дибич, стоя у стола, подвинул ближе лежащий тут же ворох бумаг, достал копию рапорта, посланного Николаю. Усевшись поудобнее, он расстегнул мундир, нахмурил брови и с видимой натугой стал вникать в десятый раз в ровные, красиво выведенные строки, над которыми полдня старался лучший каллиграф походной канцелярии фельдмаршала. До сих пор, силезец родом, он плохо даже говорил по-русски, с резким акцентом, а уж о чтении, о письме — и говорить нечего.
Перевернув первую страницу, Дибич будто вспомнил что-то, поглядел на дверь, куда вышел Толь, забормотал какое-то привычное проклятие и снова, посасывая сигару, хотел было приняться за чтение, но огляделся, словно ища чего-то, и крикнул:
— Тенис! Дай пив!..
Денис, денщик, словно ждал, быстро появился с пивом и любимой огромной кружкой на подносе, поставил, молча ушел и только в продолжение целого вечера заглядывал, уносил пустые, приносил полные бутылки…
А Дибич тянул пиво, затягивался крепкой сигарой, читал, перечитывал рапорт и думал… думал…
Он хорошо знал, что именно Толь играет в руку врагам фельдмаршала в Петербурге при дворе, сообщая многое, чего не надо; выставляя в плохом свете даже удачные шаги начальника русской армии.
Конечно, и у Дибича, кроме его репутации счастливого вождя, почтенного именем Забалканского, были свои покровители и друзья при дворе. Они отражали нападки, помогали ему, чем умели. Дибич знал, что сильный соперник уже теперь выдвигается там ему: граф Паскевич. Это бесило полнокровного, вспыльчивого, хотя и довольно изворотливого, хитрого силезца.
Но он наметил себе с самого начала кампании свою тактику и твердо ее держался.
С самого начала он старался подчеркнуть и поставить на вид необычайную трудность ведения борьбы зимой, в краю, население которого враждебно по духу, фанатично настроено своими ксендзами против москалей-схизматиков, детей антихриста…
При малейшей неудаче, в которой, конечно, Дибич винил кого угодно, только не себя, — он рисовал положение чуть ли не отчаянным, находя, таким образом, в стечении роковых обстоятельств извинения для уронов, понесенных его отрядами. Он жаловался, хотя и справедливо, но уж чересчур усиленно, на медлительность военного министерства, которым управлял Чернышев.
Набросав, таким образом, самый мрачный общий тон, Дибич малейший свой успех, самую сомнительную удачу раздувал чуть ли не до степени решительной, "блестящей", во всяком случае, победы… И эта "победа", разумеется, имела тем более ценности, чем больше трудностей, по докладам Дибича, приходилось преодолеть ради достижения успеха.