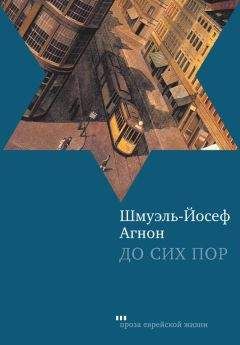Я позвонил, но мне не открыли. Я толкнул дверь. Дверь приоткрылась, и я вошел. В иную ночь я бы не менее удивился и тому, что дверь в дом не заперта после полуночи, но в эту ночь я уже перестал удивляться и лишь обрадовался, что дверь открыта и мне не доведется будить спящих жильцов. Поскольку ключа от лифта у меня с собой не было, я стал подниматься по лестнице, этаж за этажом, и по мере того, как я поднимался на каждый следующий этаж, мне все слышней становился шум, доносившийся сверху из пансиона. Подбирая в уме подходящие слова, которые объяснили бы хозяйке и ее дочерям мое позднее возвращение, я поднялся наконец на тот этаж, где располагался пансион, и обнаружил, что эта дверь, как и нижняя, была не заперта. Что та дверь, что эта. Поистине чудеса сопровождали ночь моего возвращения. Тихий пансион, который во все прежние ночи укладывался спать даже прежде времени, в эту ночь и не думал засыпать. Вот – все его двери были открыты. Устав с дороги, я ничего более не хотел, как пробраться тихонько в свою комнату и рухнуть на кровать. Но тут вдруг передо мной и в самом деле появилась Хильдегард и преградила мне дорогу. Она смотрела на меня, страшно выкатив глаза из этого своего ущелья меж нависшим лбом и выпирающими скулами, и я вдруг увидел, что в глазах ее стоят слезы.
– Я вернулся, – сказал я.
От звуков моего голоса она словно очнулась, глянула на меня сквозь слезы, взяла мою руку и положила ее себе на грудь, на самое сердце. Потом глаза ее вернулись на положенное место в свои орбиты, взгляд стал осмысленным, и она сказала:
– И наш Гансик вернулся тоже. – Но почувствовала, видимо, что я не понял, кто такой этот «Гансик», и повторила: – О, мой несчастный брат, о, мой несчастный брат!
Я сердечно сжал ее руку и уже собрался было задать ей один из тех пустых вопросов, которые всегда задают в тех ситуациях, когда не знают, что бы такое спросить, но тут появилась Лотта, увидела нас, втянула, по своему обыкновению, голову в плечи, глянула на меня из этой норы и проговорила что-то в том же роде, что и Хильдегард. Хильдегард быстро выдернула свою руку из моей, сурово посмотрела на сестру и сказала:
– Тебе незачем утруждать себя, Лотта. Мы уже знаем все, от начала и до конца.
Я протянул руку и Лотте, чтобы поздравить ее, как только что поздравил Хильдегард, но она все таращилась на меня и продолжала что-то пищать, все более манерно. Тут вышла и Грет.
– Гансик сидит у мамы, – сказала она. – А мама сидит и плачет.
Я и ей пожал руку, поздравляя с возвращением брата, как только что поздравил ее сестер. Ее веснушки зарделись еще сильнее, а та щель, которая служила ей ртом, сузилась и побелела. Наверно, человеку на моем месте полагалось бы также пойти поздравить их мать, но мой разум, видимо, судил иначе, потому что он подсказывал мне не вторгаться сейчас между матерью и сыном. Я разрывался между этими двумя намерениями и никак не мог решить, какому из них последовать. Тем временем ноги мои уже начали подкашиваться от усталости. Я чувствовал, что вот-вот упаду, но две стороны моего «я» были сильнее меня и продолжали бороться друг с другом. То одна брала верх, то другая. То одна взывала к моему состраданию: как это, после того, что ты видел горе этой несчастной матери и слышал, как она оплакивает пропавшего сына, ты теперь, когда этот сын вернулся, не пойдешь ее поздравить?! – то другая взывала к моему благоразумию: оставь их наедине, иди лучше к себе в комнату да ложись-ка в свою постель. И так я стоял, пока Хильдегард не появилась снова, со своим вечным кактусом в руках и сказала, обращаясь ко мне:
– Иду украсить комнату нашего Гансика.
– Как это случилось? – спросил я. – То есть как он возвратился, ваш брат? Вас известили, что он возвращается, или это он сам вас известил?
Хильдегард смахнула слезинку и сказала:
– Как это случилось? Очень просто. Звонок в дверь – и вот он, Гансик. Стоит в дверях. Какое счастье, что я первой встретила его и успела приуготовить мамино сердце. Ведь если б она увидела его неожиданно, ее могла бы покинуть душа от великой радости.
Сама Хильдегард на радостях стала более приветливой, не то что в день моего отъезда, когда она поливала кактус и не обращала на меня никакого внимания. Сейчас она стояла со мной в коридоре и подробно описывала мне процесс возвращения брата во всех его деталях и во всем их порядке. Не помню уже, был ее взгляд при этом спокоен или метался нервно, следя за моей реакцией, но голос в любом случае не раз прерывался от сдержанного плача.
– Сижу я у себя в комнате, – рассказывала она, – и почему-то не хочется мне ложиться. Пробую вязать, и вязанье тоже у меня не идет. Вижу вдруг, что уже поздно, а я еще даже не постелила. Откладываю я вязанье и начинаю стелить себе постель. Но так и не застилаю. И что же я делаю вместо этого? Захожу к маме. И вижу, что она сидит на кровати, а в руках у нее фотографии. И говорит мне мама: «Даже не знаю, сумею ли я опознать нашего Ганса, если он вдруг вернется. То ли потому, что у него вырастет борода, то ли потому, что он вернется инвалидом». Тогда я говорю ей: «Бородатый или инвалид – за что это ему? Но вот усы у него вырастут наверняка, такие, как у нашего кайзера». Попыталась я представить себе лицо Ганса с закрученными вверх усами и начала смеяться. Разве не смешно: молодой парень – и вдруг у него усы, как у кайзера?! Подняла я руки над верхней губой и кручу пальцами, как делают мужчины, когда закручивают кончики усов. И вдруг слышу голос у двери, а следом – звонок за звонком. Мама говорит: «Поди открой». А я говорю ей: «В такое позднее время никому не позволено беспокоить людей». А мама говорит: «Если мы не откроем, они будут звонить и звонить и разбудят весь пансион». Понимаю я, что мама права, и бегу к дверям. А пока я бегу, они все звонят и звонят. Тут вышел в коридор налоговый чиновник, а за ним Изольда Мюллер, та, что живет в большой комнате, а за ними и все прочие жильцы. Вижу я, что опасения мамы сбываются. А тут и она сама вышла, чтобы извиниться за беспокойство. Открыла я дверь, а сама вся киплю от возмущения. И вдруг вижу – стоят двое солдат, один молодой, а второй еще моложе. И один из них говорит: «Это пансион фрау Тротцмюллер? Сестра Бернардина послала нас с чемоданами того господина, который гостил у госпожи Шиммерманн». Смотрю я на этих солдат, на их чемоданы, и хочу немедленно вышвырнуть их обоих вместе с их чемоданами. А они стоят и ни с места. Тогда я им говорю со злостью: «Я сейчас вызову полицейских, чтобы они вас арестовали, наглецы вы этакие». Но тут служанка наша увидела чемоданы и говорит: «А ведь это вещи того господина из маленькой комнаты». Я говорю: «Как это?» И тут же вмиг понимаю, что это вы, господин, приехали обратно в Берлин из своей поездки и возвращаетесь к нам в пансион. И говорю им: «Занесите чемоданы внутрь и убирайтесь». Они занесли чемоданы и уже собрались уходить. И тут вдруг выпрыгивает в коридор наша Грет и как закричит: «Гансик!» Мы все подумали, что она сошла с ума. А она снова: «Гансик! Гансик!» И бросается к одному из солдат со словами: «Ведь ты же наш брат Ганс! Скажи мне, разве ты не Ганс? Мама, я клянусь, что это Ганс, клянусь жизнью». А Ганс стоит и молчит, не говорит ни да, ни нет, просто стоит и смотрит на нас на всех. Но я вижу, что в его глазах что-то меняется и они начинают рыскать туда и сюда. А потом он как завопит: «Мама!» И в ту же минуту мама тоже закричала: «Сынок!» И я тоже хотела уже крикнуть: «Братик!» – но слова словно исчезли у меня из горла, как будто кто-то выхватил их и проглотил. Но на этом еще не все кончилось. Тот солдат, который сопровождал Ганса, вдруг заявил, что не уйдет без него, потому что, по его словам, отвечает за него перед сестрой Бернардиной и поэтому Ганс должен вернуться вместе с ним. И мы так ничего и не могли с ним поделать, пока я не позвонила по телефону в высшие инстанции, и только тогда мы от него наконец отделались.
Я уже падал с ног от усталости. По всем законам мне следовало бы поскорее добраться до постели, но как прервать сестру, когда она рассказывает о брате, да еще о каком брате – который вернулся живым после того, как его уже отчаялись увидеть. Часы подали свой голос – первый час следующих суток. Все родственники и знакомые, пришедшие, по срочному известию, увидеть Гансика, давно разделились на две группы: те, кто жил неподалеку, разошлись по домам, а кому было далеко, остались ночевать в пансионе, потому что трамваи уже перестали ходить. Дом тоже уже затих: кто ушел – ушел, кто остался спать – лег спать, тишина воцарилась, и в этой тишине – лишь дыхание спящих людей. Мучительный зевок силился раздвинуть мои челюсти, но мне не под силу было открыть рот. Хильдегард тоже ушла – проверить, все ли гости нашли себе место, и я не успел спросить у нее о своей комнате. Грет увидела, что я остался один, и подошла поближе. И тоже начала рассказывать о Гансике – где он сейчас и где был раньше, когда и как появился перед ней, войдя вместе с самым обыкновенным солдатом, и что сказала мама, когда увидела Гансика, и как солдат, пришедший с Гансиком, не хотел уйти один, без Гансика, а хотел вернуться обязательно с Гансиком, потому что ему приказали непременно вернуться вместе с Гансиком, и, если бы не Хильдегард, которая позвонила в самые высшие инстанции, этот солдат ни за что не оставил бы им Гансика, а потащил бы Гансика за собой, и мы бы опять остались без Гансика, как это уже бывало много раз, когда мы видели Гансика во сне, а когда просыпались, не было никакого Гансика. И еще, рассказывала Грет, наш Гансик стал выше ростом, и теперь Гансик, каким он пришел с войны, отличается от Гансика, каким он ушел на войну, и даже ее сестры это признают, но она обнаружила это первой, и форма лица у Гансика тоже изменилась, и даже глаза у него стали другие, так что теперь глаза нынешнего Гансика совсем не похожи на глаза Гансика довоенного, хотя господин Шмидт и утверждает, что глаза у человека не могут измениться и не меняются никогда, но у Гансика прямо видно, что глаза у него изменились. Она все говорила и говорила мне о Гансике, и вся любовь, которую может питать сестра к брату, звучала в ее голосе, когда она произносила это свое сотое «Гансик». Временами ее глаза застилали слезы, а маленький носик сильно краснел. А меня уже и ноги не держат совсем, и ни одно из моих чувств – ни слух, ни зрение – не работает даже и вполсилы. Грет все рассказывает и расссказывает, а мои уши уже и не слышат ничего, кроме как: «Гансик… Гансик… Гансик… Гансик…» Не помню, на чем она кончила свой рассказ, не помню, как распрощалась со мной и отошла, помню только, что когда я увидел, что стою наконец один, то повернулся и поплелся в свою прежнюю маленькую комнатку, которую покинул три дня назад.