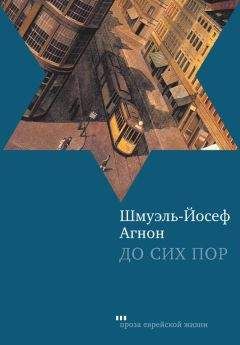И вдруг я почувствовал, что он смотрит на меня в упор. Неужто он меня узнал? Неужто вспомнил ту злосчастную печенку? Мне припомнилась Малка, которая протянула мне этот подарок, обделив ради меня своего мужа и сына, да и себя саму тоже, припомнились собаки, которые бежали следом за мной по запаху крови, и тот русский военнопленный, которому я хотел было отдать этот дар, в конце концов попавший к сидящему сейчас напротив «голему». Не думаю, что это несчастное существо сумело бы ответить что-нибудь внятное, спроси я его, понравилась ли ему та печенка.
Русский пленный вдруг снова предстал передо мной. В точности такой, каким я его увидел тогда, – одинокий человек в поле, посреди чужой и чуждой ему страны. Как странно: Бригитта не только отказала ему в помощи – она отказала ему даже в сочувствии, а когда я пожалел его и заговорил с ним, она упрекнула меня за это. Мне вспомнились беды этого юноши, и я на миг даже забыл, где нахожусь, и видел перед собой только его одного. Будто я снова говорю ему: мужайся, ты еще молод. Не надейся, что я смогу тебе помочь, но, если ты захочешь выговориться, я готов стоять и слушать. Выговорись, сними тяжесть со своей души. Что тяготит тебя? Скажи, друг мой, скажи, не стесняйся меня. Если я перебью тебя, то не для того, чтобы побыстрее от тебя отделаться, а затем, чтобы ты увидел, что не глухому говоришь. Почему ты так странно смотришь на меня? Я ведь не просто так болтаю, я говорю, чтобы разговорить тебя. Сколько тебе лет? На вид нет и двадцати. Сколько же тебе было, когда ты пошел на войну, – восемнадцать? Небось говорил себе: буду воевать за царя и отечество, буду косить врагов налево и направо и стану прославленным героем? А на деле? Не успел ты даже волосок с вражьей головы смахнуть, как враг навалился и взял тебя в полон. И сейчас ты уже не хочешь убивать. Сейчас ты, друг мой, всей душой только и хочешь, что вернуться домой, к матери, и никогда больше не слышать грохота боя, не так ли?
Кивнул мне мой воображаемый собеседник в знак согласия, и я заговорил с ним мысленно снова. Сейчас ты военнопленный, спишь в хлеву вместе с немецкими свиньями, и тебя самого удивляет, что в твоем сердце нет ненависти к врагам. Ты даже, быть может, готов их полюбить, только им не нужна твоя любовь. Они и сами, возможно, не испытывают к тебе ненависти. Они испытывают ненависть к некому абстрактному Врагу. К врагу, которого они не видят и не знают. Понимаешь, когда в мире царит война, в мире царит и ненависть, и тогда все захвачены и заражены ненавистью. Хочешь, я расскажу тебе историю? Вот представь себе: приезжают в Лейпциг евреи из Галиции, из Брод, чтобы найти там заработок, потому что в их собственных местах нет для них работы. Встречают их галицийские братья-единоверцы, которые давно уже живут в Лейпциге, и помогают им пропитанием и советами, а когда они находят работу, приводят к себе в синагогу. Рады новоприбывшие, что нашли место для молитвы, такое же, как у себя в Галиции, и не нужно им теперь идти молиться в синагогу немецких евреев, которые относятся к ним, как к пасынкам. Знаешь ведь, как это: на молитве мы говорим «Господь, Бог наш, Бог един» – а синагог во имя Его построено множество самых разных. Но не место сейчас и не время толковать о разных верах и разных мнениях. Вот приходят они, значит, в галицийскую синагогу в Лейпциге, к братьям своим галичанам, сынам того же народа и выходцам из того же места, и произносят те же молитвы, что они. О разных вариантах молитв тоже не место и не время сейчас говорить. Хотя Бог Израиля един и народ Израиля един, но молитвы наши имеют много разных вариантов. Но тут они молятся вместе со своими братьями в одной и той же синагоге по одному и тому же молитвеннику и произносят одни и те же молитвы на один и тот же лад, так же, как произносили у себя в Галиции. И вдруг возникает между ними разлад. Не по денежным вопросам, упаси Боже, – ведь Господь наш, Господь единый, благословенно Имя Его, дает пропитание всему в мире, всем творениям Своим до единого, и не возьмет себе человек того, что назначено ближнему его. А разлад этот между ними возник по самым что ни на есть коренным вопросам, по вопросам веры. Господь-то наш – Он един, и вера Его едина, да вот люди и их веры отличаются друг от друга. И что ты думаешь? Возник между ними разлад, и поднялись эти новоприбывшие галичане, и ушли прочь от тех лейпцигских галичан-старожилов, и построили себе на свои деньги отдельную от всех синагогу, только для самих себя, да еще назвали ее именем маршала фон Гинденбурга, дабы известить весь еврейский мир о своей силе и доблести, ибо как Гинденбург победил врагов своих во всех сражениях, так и они, галицийские евреи, победили братьев своих, галицийских евреев, в сражении за свою еврейскую веру против их еврейской веры.
Вижу я: стоит тот русский военнопленный и диву дается. Наверно, удивляется, что можно столько говорить по-немецки, – ведь с того дня, как он попал в плен, с ним ни разу так не разговаривали. И вдруг я очнулся. Поднял голову и увидел, что нет вокруг ничего подобного – ни пустынного поля, ни русского пленника, – а сижу я в поезде и напротив меня сидит существо-«голем», которое смотрит прямо на меня. Может, он все-таки вспомнил вкус гусиной печенки?
А за окнами уже появились огни Берлина. Город надвигался и рос во все стороны. Сестра Бернардина протерла сонные глаза, потянулась и заторопила солдат собирать пожитки и готовиться к прибытию. Солдаты бросили игру и с криками: «Берлин! Берлин!» – стали собираться. А на меня вдруг нахлынула глубокая тоска, даже руку и ту тяжело было поднять. Я с трудом потянулся за своими вещами. Бернардина увидела мое состояние и сказала: «Не беспокойтесь, мои солдаты принесут ваши вещи к вам домой». Я подумал про себя: вот, она говорит: «К вам домой» – в том смысле, что мы, я и мои вещи, торопимся оказаться в своем доме, но, поскольку у нас на самом деле нет своего дома, нам придется вернуться в тот же пансион, из которого мы уехали, в ту же крохотную комнатушку, а ведь там нет ни света, ни воздуха, ни лучика радости, ни дуновения жизни, ничего. Но разве есть у нас выбор? Разве приуготовано для нас иное жилье?
Берлин! Вокзал заполнен солдатами, приехавшими сюда из самых разных мест, и солдатами, которым предстоит разъехаться в самые разные места. Ведь у Германии большая война, в самых разных местах. Кому хуже – приезжающим или уезжающим? Но не время сейчас стоять, и глазеть, и рассуждать, сейчас время хватать свои вещи и шагать в свой пансион. Осталась ли моя комната свободной? Не сдали ли ее тем временем кому-нибудь другому? Потому что если сдали, то в высшей степени сомнительно, найду ли я себе другое жилье.
Сестра Бернардина подошла ко мне и сказала, что я должен написать свой адрес и тогда солдаты доставят мои вещи ко мне домой. Я отринул на время все свои сомнения и опасения, пошарил по карманам, нашел клочок бумаги и написал на нем название своего пансиона, а также название улицы и номер дома. Бернардина глянула на бумажку, подозвала одного из солдат и сказала ему: «Отнеси вещи этого господина по указанному адресу». Солдат взял у нее бумажку, тоже прочел мой адрес, повторил его вслух и взял мои вещи.
И тут произошло нечто поразительное. Тот «голем», тот бессмысленный истукан, что доселе казался начисто лишенным всяких желаний и воли, внезапно вспрыгнул со своего места, выхватил мои чемоданы из рук солдата и стал выкрикивать: «Я! Я! Я!» Это было не только удивительно, но даже отчасти тревожно: кто знает, что сделает это безмозглое существо с моими чемоданами и куда оно их потащит? Видно было, что сестра Бернардина, которой поручено было доставить в Берлин всех этих солдат до единого, испугалась тоже. Ведь никто другой из ее подопечных не осмелился бы так поступить без ее разрешения. Но выражение испуга на ее лице тут же сменилось выражением гнева, и она сердито крикнула голему: «Оставь чемоданы! – А поскольку тот не послушался, еще и пригрозила: – Вот скажу сейчас полицейскому, он тебя арестует и посадит в тюрьму». Но голем и теперь не последовал ее приказу, и тогда она с досады покрутила пальцем у виска и сказала: «Не варят у него мозги, у этого болвана».
Как поступить? Положиться на этого истукана нельзя, он правого от левого не отличит. И забрать у него вещи тоже невозможно: вон он как изо всех сил в них вцепился, того и гляди, замахнется и ударит всякого, кто попытается их отобрать. После недолгих раздумий решено было оставить ему мои чемоданы, но послать с ним другого солдата в качестве сопровождающего. Выбрали того, которому уже раньше велено было отнести мои вещи. Голем, которому без разницы было, сопровождает его кто-нибудь или не сопровождает, пошел, задрав голову, по перрону – точь-в-точь деревянная кукла с висящими из рук чемоданами, – а солдаты, глядя, как он вышагивает, насмешливо проводили его детской песенкой: «Гансик мал, да удал, вон как бодро зашагал…»
Расставшись таким образом с сестрой Бернардиной и остальными моими попутчиками, а также с собственными вещами, я отправился в полицейский участок за очередным разрешением на жительство, теперь уже в Берлине. И хотя я был, как вы помните, иностранцем и к тому же заявился в участок в поздний час, полицейские на сей раз обошлись со мной не так уж строго. Выдали мне нужную бумагу, не задавая лишних вопросов, и только тот полицейский чин, который листал мой австрийский паспорт, возложил на мои плечи все провинности австро-венгерской монархии, пробурчав что-то вроде: «Вечно эти австрийцы всюду опаздывают». Избавившись и от этого дела, я направился наконец на свою Фазаненштрассе. Было близко к полуночи, но Берлин и не думал засыпать. На улицах стоял шум, громко звенели трамваи, таксомоторы, которых никогда не сыскать, когда они нужны позарез, теперь мчали взад и вперед по мостовым, торопясь доставить своих пассажиров из мест возлияния в места развлечения или же из мест развлечения в места возлияния. Ведь по мере того, как множилось число нажившихся на войне нуворишей, множились также места их возлияний и развлечений, равно как и сами искатели этих и других удовольствий. Повернет человек в одну сторону – наткнется на мужеподобных женщин, повернет в другую – встретятся ему женоподобные мужчины, прямо пойдет – затолкают его хромые, слепые, увечные и прочие калеки, ушибленные войной и обиженные Богом, а меж теми и другими будут тянуть к нему руки несчастные нищенки и молить слезно о кусочке хлеба или иного пропитания.