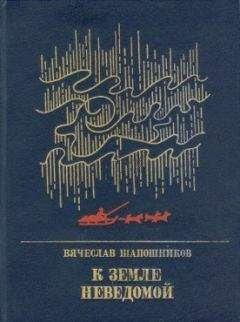— Да я и сам-то многого не скажу… Но жизнь, а житьишка у меня тут… С фабрики меня за пропаганду прогнали, здоровье, особенно зрение, совсем было оплошало. До того дело дошло, что одно время обретался на Хитровом рынке, на самом дне…
— Теперь-то — где?
— Перебрался в Замоскворечье, в рабочую ночлежку на Татарской, где публика тоже ай да ну!.. Хотя, впрочем, попадаются люди и ничего… Одно скажу: трудно мне тут одному. О Питере каждый день думаю… Все вспоминаю нашу тамошнюю жизнь… Как собирались на квартире в Сивках у Гавриила Мефодиева, как занимались в кружках… А наша демонстрация в апреле — на похоронах Шелгунова! А наша первомайская маевка!.. — Афанасьев вздохнул, глянул на ползущие над рощей тучи. — Тут — совсем не то… Один как перст. Рабочий здешний на агитацию неподатлив. У Филонова начал было действовать, так сразу вышибли… Один тут много не навоюешь!.. Да еще и год-то труден: везде только и разговоров, что о голоде. Рабочий, особенно семейный, дорожит местом, боится оказаться за воротами… К такому с агитацией — попробуй сунься!.. Главное: зацепиться по-настоящему пока не за что… На душе — постоянная тяжесть… Как-то все неопределенно…
— Да, тяжелое дело, когда все только в самом начале и когда до результата неизвестно сколько… Никому не известная дистанция… Глянешь порой вокруг себя. Вот течет жизнь. Давным-давно заведенная, запущенная, ведать не ведающая о том, что какие-то одиночки хотят переиначить ее, изменить ее самым коренным образом… — Михаил едва заметно усмехнулся. — Это заговорщики, бомбометчики могут испытывать охотничий озноб от сознания доступной, близкой цели… Вот завтра он выйдет с бомбой в руках на такой-то перекресток и сделает свое конкретное шумное дело!.. Кто-то определил террор как эгоизм самопожертвования. Парадокс? Пожалуй. Но парадокс, несущий в себе смысл! Самопожертвование это напрямую связано с близким результатом, с сиюминутным результатом, оно не имеет терпения для длительной, незаметной на первый взгляд работы, для глубокого революционного труда… Нам же надо запастись этим терпением, дорогой Афанасьич! Да и что тебе об этом толковать?! Но хуже меня все понимаешь…
— В Питер-то — когда?.. — покивав, спросил Афанасьев.
— Сегодня же, вечерним поездом. Надо подверстать там кое-какие дела, побывать в Обществе технологов — насчет места. Решил все-таки зацепиться за Москву, так что в самом скором времени должен вернуться сюда. Ты же пока тут побыстрее устраивайся на какую-нибудь фабрику, заводи связи с рабочими, как ни трудно. С ночлежкой надо распроститься. Подыщи себо дешевую комнату, обязательно отдельную от хозяев. С Кашинским я поговорю, чтоб он еще помог тебе деньжонками. А там я начну зарабатывать, да и ты устроиться, — проживем и без чьей-то помощл! — Михаил слегка толкнул локтем недовольно поморщившегося Афанасьева. Тот оглянулся на Кашинского, видневшегося далеко позади, в перспективе аллеи:
— Ох, не по душе мне его помощь… Он ведь на первых же порах начал подводить меня к разговору насчет террора. Не связываться бы нам с ним… Не нашей он веры…
— Но пока — придется связаться… Кашинский для нас сегодня — какая-никакая, а зацепка за Москву… Поживем — увидим… — Михаил слегка тряхнул Афанасьева за локоть. — Выше голову, друже!..
Афанасьев словно бы мимо ушей пропустил его бодрые слова, в сомнении покачал головой:
— Да уж и есть ли за этим Кашинским хоть какой-нибудь кружок?.. Что-то сомневаюсь… Скоро вот полгода, как я здесь, а ни о каком кружке знать ничего не знаю… И самого-то Кашинского видел — всего ничего…
— Я разговаривал с ним об этом, то есть о кружке… Их тут весной разгромила полиция. Вот съедутся студенты — дело будет налажено. Так что давай потерпим…
Афанасьев лишь пожал плечами в ответ на эти слова.
Парк потемнел вдруг еще больше. Впереди, над деревьями, с хриплым карканьем поднялись вороны. По листве, по притоптанному песку дорожки застучали крупные капли. Сорвался ветер, зашатал деревья, и они занялись тревожным осенним шумом. Дождь стал расходиться.
— Ну вот и поговорить не даст… — Михаил глянул на небо и повернул в обратную сторону. Вдалеке Кашинский призывно махал им руками. Под расходящимся дождем прибавили шагу. На ходу доканчивали разговор:
— Так, стало быть, в Петербург?
— Да, сегодня уезжаю…
— А в Питере-то долго ли пробудешь?
— Да дел-то там теперь много. Сам знаешь: обычно осенью начинается наша основная кружковая работа!.. Где-нибудь в ноябре, к декабрю ближе, жди меня здесь!.. Поддерживай пока связь с Кашинским…
Простились на Кадетском плацу, под косыми дождевыми струями. Афанасьев направился в сторону Рогожской заставы, чтобы сесть там на конку, едущую в Замоскворечье, где он жил, Михаил с Кашинским — в сторону Красноказарменной.
В жизии петербургской организации особых перемен и событий за время отсутствия Михаила не произошло. Летние месяцы и первый месяц осени всегда были для кружков временем затишья. Все начинало оживать в октябре, после возвращения студентов с летних вакаций и с летне-осенней учебной практики. Михаил приехал чуть раньше этого ежегодного оживления, как и в прошлом году.
В день приезда ощущение было такое, будто вернулся на пепелище: из кружковцев-пропагандистов — никого, конспиративная квартира в Сивках не существует, все бывшие однокашники разъехались после окончания института — кто куда, еще год назад…
С таким же ощущением ходил он по Петербургу после возвращения с Кавказа и в прошлом году. Тогда, пожалуй, даже поострей было это ощущение: полоса обысков, арестов, провалов продолжалась для кружка пропагандистов всю весну и почти все лето. Разгром народовольческой группы Качоровского и Беляева задел тогда (и как следует!) их тоже, поскольку связь с народовольцами у них все-таки была, хотя они резко расходились с теми в вопросах, касающихся тактики действий, в самом главном. Хороший урок они тогда получили, дорого обошлась им эта связь…
Михаил поселился на своей прежней квартире в доме № 35 по Можайской улице.
На следующий день он наведался в Общество технологов — справился насчет работы. Секретарь Общества сказал ему, что списки кандидатов еще не составлены, да и на некоторые запросы Общество не получило пока ответов; предложил зайти через месяц, не раньше. Такой ответ не огорчил. В Питере, так или иначе, необходимо было задержаться никак не меньше чем на месяц. Прежде всего надо было наладить работу кружков. Весной организация лишилась нескольких ведущих студентов-пропагандистов. Надо было подумать о замене их новыми пропагандистами. Два подходящих студента у Михаила уже были на примете — Николай Сивохии и Алексей Разумовский.
С Николаем Сивохиным он познакомился в конце сентября прошлого года. Тогда он вернулся в Петербург после летних вакаций и, поскольку не удалось сразу устроиться с квартирой, отправился к прежней своей квартирной хозяйке — Софье Антоновне Вейдо, жившей на углу 4-й Роты Измайловского полка и Забалканского проспекта. У нее уже поселился, как оказалось, студент-первокурсник Лесного института. Этим студентом и оказался Сивохин. Прожили вместе чуть больше недели, но и за это короткое время успели привязаться друг к другу. Затем Сивохин подыскал себе другую квартиру, на Захарьевской улице, но, переехав в нее, почти ежедневно бывал у Михаила, да и Михаил часто наведывался к нему. На Захарьевской Сивохин поселился со своим другом и однокурсником Алексеем Разумовским, с которым Михаил тоже вскоре близко сошелся.
В то же время Михаил поближе познакомился со старшим, пятнадцатилетним, сыном своей квартирной хозяйки Валерианом. Тот жил отдельно от матери, при переплетной мастерской какого-то Кирхнера, находящейся на Малой Морской; в мастерской он работал переплетчиком. К матери Валериан приходил раза два в неделю, ненадолго — просто повидаться.
Валериан был подростком диковатым, вспыльчивым. Живость характера боролась в нем с застенчивостью и угрюмостью. С матерью он поддерживал довольно странные отношения: не было в этих отношениях теплоты.
Михаил как-то пригласил Валериана к себе в комнату, разговорился с ним. После этого разговора Валериан всякий раз сам заходил к нему. Однажды явился со стихами. Протянул, хмурясь, два листочка: «Посмотрите, что я тут насочинял…»
Стихи оказались «с политикой». Одно стихотворение называлось «Доля мужика», другое — «Восстанем, братья, за свободу!». Михаил с карандашом в руках принялся читать их вслух, тут же подчеркивая те строки, которые были явно плохи, и объясняя, почему они плохи. Затем, отложив стихи в сторону, с улыбкой посмотрел на Валериана, обнял его: «Не обижайся, друже! Хорошо уже то, что тебя трогают, увлекают такие темы! Это мне о многом говорит. Стало быть, в тебе живет неспокойная, ищущая совесть! А это — главный человеческий дар! Пока не в том дело, что у тебя вот тут произносится «земцы», а надо — «зёмцы», что у тебя вот эта строка — слишком длинна, а вот эта — слишком коротка. Основное — твоя ранняя чуткость к главным вопросам жизни! Однако, Валерка, надо быть и грамотным человеком! Без этого далеко и по самому верному пути не уйдешь… Учиться надо тебе, друже!..»