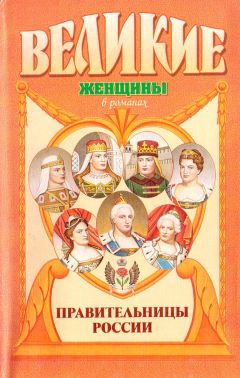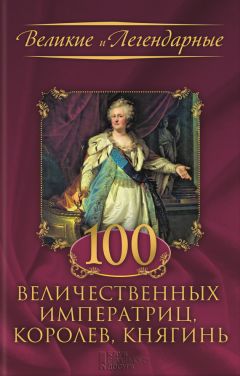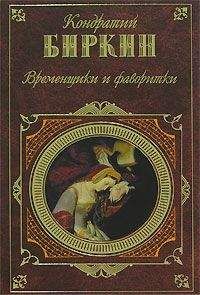— Собрались, и с Богом! Чего угодное Богу дело откладывать?
Михаил Львович так на попа зыркнул — у того и язык отнялся.
Всё же через три дня Глинские пошли воевать: сам Михайла Львович с братом Иваном отправился к Мозырю, Василия послал под Киев — велел забрать для начала Житомир и Овруч, а московские воеводы — все враз — потянулись к Смоленску, отвлекая на себя главные королевские силы. Война началась всерьёз. И Михаил Львович почал своё дело супротив «полячишки Сигизмундишки» с самого начала делать со всем замышлением и к городам его приступать накрепко, и землю его жечь и зорить.
В начале марта 1508 года перед Михаилом Львовичем отворил ворота Мозырь. Успех объяснялся просто — воеводой в Мозыре был его зять Якуб Ивашенцев.
Сразу же в Мозырь повалили послы. Никита Семёнович Моклоков — Губа, приехав из Москвы, сообщил Михаилу Львовичу, что государь щедрою рукой дарует ему — Глинскому — все земли и города, которые он отобьёт у Сигизмунда. Михаил Львович, скрыв усмешечку, низко поклонился послу и сердечно поблагодарил государя.
В начале апреля сдался Клецк. И здесь дело обошлось без крови: ворота города открыли мужики — землерои, коих князь два года назад избавил от татарской неволи, отправив с поля предстоящего сражения.
Когда Глинский взял Клецк, туда наборзе примчались и молдавский посол и крымский. Хан обещал Михаилу Львовичу ещё большую милость, чем московский великий князь.
— Царь Гирей, — сказал посол, — дарит тебе, князь Глинский, Киев. И как только Киев возьмёшь, то этим городом и будешь по его царской милости править.
Услышав это, Михаил Львович подумал:
«Так бы и я мог Василию да Гирею Варшаву и Вильнюс подарить. Да только далеко до этих городов, как им, так и мне».
А в это время отряды повстанцев рассеялись по огромной территории, запалив мятеж чуть ли не на половине Великого княжества Литовского.
Под Оршей, под Житомиром, под Овручем, у Слуцка и Минска бились повстанческие отряды, ожидая обещанной русским царём подмоги. Однако, как ни велики были силы восставших, города затворились накрепко и более ни одной крепостицы мятежный князь взять не мог, ибо московские полки, хотя и направились к Смоленску в начале марта, пока ещё шли неведомо где.
Целый день заседал в Клёцке военный совет. Вместе с военачальниками сидел за столом и московский думный дьяк Иван Юрьевич Поджогин — Шигона, человек ещё молодой, незнатный, но уже входивший при государе в большую силу.
Воинники, глядя на большой чертёж государства Литовского, постеленный на столе разноцветной скатертью, водили по нему перстами, шумно дышали, спорили до хрипоты.
Иван Юрьевич сидел бессловесно, только очами посверкивал, поворачивая большую голову на тонкой шее то вправо, то влево.
Главный ратоборец, князь Михаил Львович, тоже сидел молча, уперев подбородок в кулак.
К обеду, дав высказаться каждому из советчиков, Михаил Львович взял слово сам:
— Слушал я вас чуть ли не полдня. Теперь меня послушайте. Силы наши, — Михаил Львович плавным движением руки очертил над столом большой круг, — отстоят друг от друга на двести и на триста вёрст. И бьём мы по супостатам сразу в пяти местах. Это как если б ввязался я в драку с пятью меня слабейшими, но каждого пытался бы сбить одним перстом.
Для убедительности Михаил Львович протянул над столом руку и широко растопырил пальцы.
— А врага надобно бить кулаком! — И Михаил Львович пальцы собрал в кулак. — Посему отовсюду станем силы наши стягивать в одно место — под Минск.
— Почему под Минск? — спросил брат Михаила Львовича Иван.
— Потому что там стоят полки Василия Ивановича Шемячича, и вместе с ними мы сначала возьмём Минск, а потом пойдём на Вильнюс.
Сказав это, Глинский покосился на Ивана Юрьевича.
Поджогин, перехватив взгляд Глинского, скромно заметил:
— Я, князь, не воин. Решать здесь всем вам соборно или же тебе одному, как у вас то по обычаям вашим заведено.
Михаил Львович покраснел, сказал с досадой:
— Стало быть так: осаду повсюду снимать. Всем войскам идти к Минску. Туда же и сам я выйду со всеми моими силами не мешкая.
Военная рада, гремя оружием, пошла из горницы вон. Остался сидеть лишь государев думный дьяк Иван Юрьевич.
Уже привыкнув к тому, что человек этот в простоте не делает ничего, Глинский спросил:
— Чего сказать хочешь, Иван Юрьевич?
— Что значит: «хочу», «не хочу»? — отозвался Шигона. — Я здесь не по собственному желанию сижу. Меня сюда государь мой по великим делам послал. И я тут не своё желание, а его государскую волю сполнять обязан.
Глинский снова покраснел — во второй раз за несколько минут выслушал от велемудрого дьяка поучение, как нерадивый школяр от строгого наставника.
— Говори! — сказал Михаил Львович раздражённо.
— Я, князь Михайла Львович, человек не ратный. Меня государь держит возле своей персоны не великого умишка моего ради. Так вот и понял я, будто собираешься ты со всеми своими силами к Минску идти и там купно с государевыми воеводами к нему подступать и тот литовский городишко промышлять накрепко. Так я понял, князь Михайла Львович?
— Так, — недоумевая, куда это клонит московский лис, ответил Глинский.
— А ежели так, то надобно тебе и братьям твоим присягнуть Василию Ивановичу — государю всея Руси на верность, ибо под Минском будешь ты не столь своё дело делати, сколь государево.
Глинский почувствовал, как от этих слов у него без сил опустились руки и колоколом зазвенело в голове.
Иван Юрьевич сидел, положив тонкие слабые руки на стол, глядел на Михаила Львовича не шевелясь.
— Верно, Иван Юрьевич, — промолвил Глинский обречённо. И добавил с ухмылкой: — Недаром тебя держит возле себя государь Василий Иванович, недаром.
...Через три дня Глинские принесли присягу на верность Московскому царству.
Пятидесятитысячная армия боярина Якова Захарьича подошла к Орше и остановилась, поджидая шедшую от Великих Лук армию князя Щени. Даниил Васильевич Щеня — воин старый и не менее Якова Захарьича опытный, вёл на Литву полки новгородцев. У Орши остановился и он. Хотя Яков Захарьич должен был двигаться к Смоленску, а Щеня — к Полоцку, отвлекая на себя королевские силы и тем самым споспешествуя Глинскому, ни один из воевод дальше Орши не пошёл.
Только Новогород-Северский князь Василий Иванович Шемячич выполнил то, что обещал: прошёл с войсками к Минску и встал под его стенами.
Однако тем дело и кончилось.
Шемячич перекрыл дороги, ведущие к Минску, уставил под его стенами земляной город, где не токмо ночами, но в ненастье и днями отлёживалось его воинство — и стал ждать.
Для успокоения двоюродного братца, Московского Великого князя Василия, чтоб тот укорами особливо не докучал, — приступал не зело опасно: постреливал из пищалей, из самострелов. Из пушек не палил — берег государево пороховое зелье; паче того на стены не лез — чего зазря христианскую кровь лить?
Литовские люди в Минске в замке запёрлись накрепко — попробуй возьми.
Василий Иванович посылал им прелестные письма — уговаривал перейти под высокую руку государя Московского, перехватывал обозы, зорил в округе деревеньки.
В конце мая пришла к нему весть: в Бресте, в трёхстах пятидесяти вёрстах к юго-западу от Минска, объявился сам король с несметной воинской силой.
Василий Иванович, постреляв из пушек, учинил приступ, но, потеряв полторы сотни людишек, города не взял.
И для того чтоб после от братца Василия укоров не выслушивать, собрал своих начальных людей на совет: что-де далее делать, и ежели делать, то как?
Ратоборцы кряхтели, чесали в затылках, сказывали нечто мудреное, отговаривались не в лад: как хошь, так и понимай.
Один, сетуя на слабость русских сил, на упорство минчан, бубнил, что-де против жару и камень треснет, второй, напротив, раззадорившись, кричал:
«Не робей, воробей — дерись с вороной!»
Иные его поддерживали, говоря: «Бог не без милости, казак не без счастья». Большинство же не мудрствуя лукаво осторожничали: знай-де край, да не падай.
Василий Иванович от таких советов вконец закручинился и решил постоять под Минском ещё недолго, однако ж, чтоб Сигизмунд на него врасплох не навалился, выслать по направлению к Бресту разъезды, а войску помаленьку грузиться на телеги.
Не прошло и дня — примчался в его воинский стан гонец, молодой, складный, нарядный.
В шатёр к Василию Ивановичу вошёл он без малейшей робости. Неспешно сняв бархатную шапку, поклонился кое-как, чуть наклонив голову.
Василий Иванович не знал, кто таков молодец по роду-племени, решил про себя: «Должно, сын боярский или служилый дворянин». Спрашивать же не стал — не по чину ему это было и не по породе.