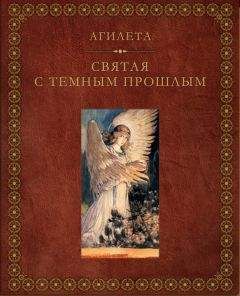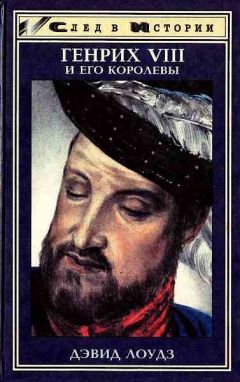Ознакомительная версия.
– Еще не то увидишь! – мрачно пророчествовал Яков Лукич, вновь заставляя ее пригнуться.
Да куда уж больше, если и так перед глазами ад?! Отважившись приподнять голову, Василиса обежала взглядом поле боя. Турок, видимо, оттеснили к морю, поскольку темная масса сражающихся солдат колыхалась уже на отдалении, а свист над головой раздаваться почти перестал. И все то пространство, где с самого рассвета сокрушали друг друга люди, вызвало у нее мгновенное воспоминание: улов, только что вываленный рыбаками из сетей. Кое-какие рыбины еще бьются, но прочие лежат без движения. Так и здесь: иные пытаются приподняться, а те, что ранены легко, даже ползут, но все это на фоне множества недвижных тел. Боже милосердный! Где ж силы взять, чтобы такое увидеть и не сойти с ума?
До сих пор они обходили место сражения с краю, но внезапно Яков Лукич увлек девушку за собой в гущу убитых и раненых. Содрогаясь каждый раз, когда ей приходилось задевать мертвое тело, девушка следовала за ним. Солдат, к которому они направлялись, сам пытался двигаться им навстречу на четвереньках, однако правая нога его при этом волочилась. Вся штанина была темной и липкой от крови – пуля засела в мышцах бедра.
У другого страдальца, запомнившегося в тот день Василисе, были так иссечены осколками гранаты и мундир, и тело, словно его исполосовал когтями в предсмертной ярости медведь. У третьего пуля срезала половину уха, но, хоть рана его и была относительно легкой, выглядел он, как искупавшийся в крови – наиболее ужасающим образом.
Раны, раны, раны… Пулевые, штыковые, сабельные, осколочные, рваные, резаные, колотые… Кошмарно развороченная плоть или отверстие в теле, прикрытое обрывками кожи, рассеченные до кости мышцы или раздробленные конечности. И все, что ты можешь сделать для этих, изнемогающих от муки людей – наложить повязку, чтобы унять кровь. Нигде поблизости нет источника с водой, чтобы хотя бы промыть рану, а подвезти воды никто не позаботился. Как не позаботился и о том, чтобы как можно скорее доставить раненых в лагерь.
В краткие минуты передышки, распрямляя затекшую спину и отирая лицо, Василиса успевала увидеть, как отдаляются от берега турецкие корабли, увозя оставшихся в живых янычар. Она сознавала, что русские войска одержали победу, и Михайла Ларионович наверняка ликует в этот миг, как и другие офицеры, но вид лежащих вокруг нее истерзанных тел не позволял ей испытать и тени радости, одну пронзительную боль за еще недавно полных сил и здоровья людей, в одночасье изувеченных войной.
«За что? – думалось ей. – Ради чего? Им-то с этой победы ни прибыли, ни славы. Если в живых останутся – и то слава Богу».
И она со все нарастающей горечью в сердце созерцала беспомощно лежащих в ноябрьской грязи солдат, до которых никому не стало дела, едва они отдали свою кровь во славу императрицы.
Совсем другое настроение царило среди офицеров, собиравших после боя свои отряды и с облегчением убеждавшихся, что потери отнюдь не велики. А ввечеру генерал-майор Кохиус торжественно провозгласил тост за «блестящее отражение натиска превосходящих сил противника».
– Это у янычар любимая тактика – воевать числом, – заметил, пригубив вино, Кутузов. – Налететь, как муравьи – на гусеницу и давить. Не получится сходу – еще солдат подбавить. Падишаху людей не жалко – он свою армию по всем Балканам из подвластных христианских земель набирает.
– А в Бессарабии-то[12] никаким числом нашу армию не одолел!
– Это верно: при Кагуле мы, помнится, семнадцатитысячным отрядом сто пятьдесят тысяч турок разгромили. На таких гусениц они не чаяли нарваться!
Офицеры смеялись, возбужденно переговаривались, вспоминали подробности боя. Кутузов тем временем вновь заговорил с улыбкой на губах, но полной серьезностью во взгляде:
– Хоть и радость у нас сегодня, господа, а все же повод задуматься: меж Ахтиаром и Гезлевом – на таком пространстве – ни единого русского гарнизона. Нынешний десант мы заметить вовремя успели, а случись иной? Ночью? При полной поддержке местных татар?
Ответили ему не сразу – никому не хотелось омрачать торжество.
– Что же вы предлагаете, господин подполковник? – вяло осведомился Кохиус.
Он продолжал потягивать вино, небрежной позой демонстрируя нежелание заботить себя сколько-нибудь серьезным разговором.
Но у Кутузова был неожиданно готов ответ:
– Я полагаю, – вкрадчиво начал он, – что здесь нам помощь могут оказать сами татары. Если только суметь расположить их к нам.
– Расположить их?! – фыркнул Кохиус. – Чем же, любопытно, если они спят и видят, как бы избавиться от наших войск? Подают, конечно, вид, что смирились, а на деле…
– Вот-вот! – поддержал его Кутузов. – На деле мы для них кто? Враги, захватчики. Сидим по крепостям, как бородавки на их земле – то-то и хочется нас вырезать. А что если повернуться к ним другим лицом – не вражьим, а человеческим. Интерес проявить к их языку, вере, обычаям. Тогда, глядишь, и резать нас не сильно захочется.
Офицеры разом примолкли и переглянулись.
– Если б, скажем, – продолжал Кутузов, – нам поближе сойтись с их старейшинами в селеньях на западном берегу? С беками, мирзами. Да и духовенство здесь в почете и влиянием пользуется немалым: имамы вместе с князьями присяжный лист об утверждении дружбы с Россией подписывали. Случись волнения, они первыми народ на нас натравят… или остановят. Опять же: буде турки высадят новый десант, союзники среди татар могут тайком нам отправить гонца.
– Ишь, как далеко вы метите, господин подполковник! – с изрядной долей иронии в голосе, заметил секунд-майор Шипилов.
– Я для того артиллерийскую школу кончал, – с легкой улыбкой отвечал Кутузов, – чтобы в цель попадать наверняка.
– И как же вы предполагаете их к нам расположить? – осведомился Кохиус.
– Для начала следует им подношения сделать, – уверенно сказал Кутузов. – Но этого мало: подарками прав не приобретешь. А вот внимание они должны оценить, особенно если навещать их регулярно, поздравлять с праздниками, разговоры вести…
– На каком же, позвольте узнать, языке?
– На турецком, – уверенно отвечал Кутузов. – Местные образованные люди им обязательно владеют, и я во время службы в 1-ой армии достаточно бегло выучился на нем говорить.
Горницу татарского дома, где происходило собрание, окутало молчание. До сих пор ни у кого и мысли не возникало завязать дружбу с неприятелем!
– О чем нам с ними вести разговоры? – неприязненно задал вопрос Шипилов. – Не о планах же наших по удержанию Тавриды!
– Вовсе нет! – живо откликнулся Кутузов. – Следует убедить их в том, что новая власть в нашем лице желает им только добра и готова оказывать посильную помощь. Кто поумнее должен понять, что полезнее быть с нами в ладу – ведь полуостров все равно останется за Россией.
– Что ж… – неуверенно произнес Кохиус, – что ж… Если вы, господин подполковник, сами возьметесь за это дело, то почему бы, право, не попробовать? Уж хуже-то всяко не будет!
– Буду счастлив исполнить это поручение, ваше превосходительство! – поклонился Кутузов.
«…Не я его спасла, но Господь, меня направивший и открывший мне то, что для других сокрыто было …»
Ночи не было. Как в преисподней, полыхало вокруг Василисы море страдания, выплескивались из него крики и стоны, и ужас брал ее от того, что кричат не женщины, готовые взвыть от любой малости, а мужчины, коим само естество велит держать свою боль за крепко стиснутыми зубами.
Яков Лукич, бесчувственный от усталости, спал мертвым сном в отведенном для него отделении лазарета, а Василиса, хоть и тоже с ног валилась, чувствовала: сна ей не видать. Как смежить веки, когда скалится смерть и справа от себя, и слева, вцепляется нагло в свою добычу и начинает пожирать ее заживо, а ты и отпора ей дать не можешь, как солдат в бою без ружья! Все немногое, что было в их силах, они с Яковом Лукичом сделали честно, а дальше у каждого своя судьба: у кого-то по жилам пойдет антонов огонь[13] и в считанные дни спалит страдальца, кто-то станет медленно выкарабкиваться к жизни, а кто-то, бинтуй его, не бинтуй, изнутри кровью истечет. И остается лишь наблюдать с сердечной болью, кто возвращается в мир, а кто отходит в вечность.
Тому пехотинцу, коему осколком гранаты срезало кисть руки, считай, повезло: рана чистая, хоть калекой, да выживет малый. Кровь из него, как сняли наложенный на поле боя жгут, полилась, точно квас из бочонка. И Василиса, крепко сжимая дергающуюся культю, еле сдерживалась, чтоб не отпрянуть с визгом, пока Яков Лукич раскалял обломок сабли и прикладывал к ране. От запаха горелого мяса на девушку накатила дурнота, но кровь унялась, а раненый, бившийся и стонавший, побелел и затих. Повезло и егерю с плечом, простреленным навылет: и ковыряться в ране нечего; промой ее водой, прижги спиртом и оставь его, сомлевшего от такого прижигания, приходить в себя. С тем же гренадером, у которого пуля в животе застряла, чисто мучение вышло: дали ему глотнуть и спирта, разбавленного водой, и махорки накуриться до бесчувствия, и попытались зондом, а затем, как сознание от боли потерял, и пальцами нашарить сплющенный свинец в его внутренностях. Да без толку, лишь истерзали понапрасну.
Ознакомительная версия.