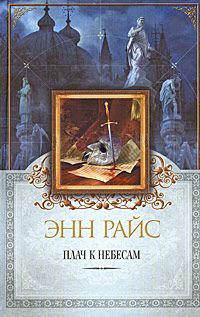Тонио развернул кресло, уселся в нем, расставив ноги, и посмотрел на закрытую занавесом сцену. Он услышал, что мать рассмеялась. Старый сенатор предложил всем отправиться домой и послушать, как она мило поет дуэтом с Тонио. А потом он сможет поужинать. «Ты ведь споешь для меня, милочка?»
— Иногда мне кажется, что я вышла замуж за желудок, — сказала Катрина. — Ставь на кон свою одежду, вещь за вещью, — обратилась она к Винченцо. — Начни с камзола. Нет, с рубашки. Мне нравится рубашка.
Между тем внизу, в конце зала, разгорелась драка. Раздались крики и топот, а потом очень быстро был восстановлен порядок. Красивые девушки разносили по рядам вино и легкие закуски.
Алессандро как тень возвышался у стены ложи за спиной Тонио.
И в это время появились музыканты и, шурша нотами, стали рассаживаться по своим обитым бархатом стульям. Впрочем, шуршание слышалось отовсюду: публика перелистывала либретто, которые бойко распродавались в вестибюле театра.
И когда молодой и никому не известный сочинитель оперы вышел в зрительный зал, раздались несколько приветственных криков с галерки и взрыв аплодисментов.
Казалось, свет немного убавили, но все равно недостаточно. Тонио упер руки в подбородок и вжался в спинку кресла. На композиторе плохо сидели и парик, и тяжелый парчовый камзол, и он ужасно нервничал.
Алессандро неодобрительно хмыкнул.
Композитор неловко плюхнулся за клавесин, музыканты подняли смычки, и неожиданно зал наполнила стремительная, веселая музыка.
Она была красивой, легкой, жизнерадостной, без намека на трагедию или дурное предзнаменование, и немедленно заворожила Тонио. Он наклонился вперед, потому что за его спиной болтали и смеялись. У изгиба балкона пиршествовало семейство Леммо, и от стоявших перед ними серебряных тарелок поднимался пар. Тщетно какой-то сердитый англичанин шипел на болтающих, призывая замолчать.
Но когда взмыл занавес, со всех сторон раздались ахи и охи. Золоченые портики и арки поднимались на фоне задника, изображающего бесконечное синее небо с волшебно мерцающими на нем звездами. Облака наплывали на звезды, а музыка, зазвучавшая в неожиданно воцарившейся тишине, наверное, достигала стропил. Композитор усердно колотил по клавишам, так же рьяно встряхивая напудренными кудрями, и в это время на сцене появились пышно разодетые мужчины и женщины и завели монотонный, но необходимый речитатив, предварявший хорошо всем известную и абсолютно нелепую историю, которая составляла сюжет оперы. Кто-то был кем-то переодет, кто-то был похищен, кто-то оскорблен. Кто-то должен был сойти с ума. Предстояла битва между медведем и морским чудищем, после которой героиня должна была вернуться домой к мужу, считавшему ее умершей, и чей-то брат-близнец должен был получить благословение богов за сокрушение врага.
Тонио собирался изучить либретто позже. Сейчас оно его мало заботило. Но что определенно сводило его с ума, так это смех матери и громкие возгласы членов семьи Леммо, которым как раз принесли зажаренную рыбу.
— Извини. — Он протиснулся мимо Алессандро.
— И куда вы идете? — Большая рука Алессандро легко и тепло обняла Тонио.
— Вниз. Я должен услышать Каффарелли. Оставайся с моей матушкой, не выпускай ее из виду.
— Но, ваше превосходительство...
— Тонио, — улыбнулся Тонио. — Алессандро, я тебе обещаю, клянусь своей честью, что не уйду дальше партера. Ты будешь видеть меня отсюда. Я должен услышать Каффарелли!
* * *
Не все кресла были заняты. Ожидалось, что по ходу представления прибудет еще больше гондольеров, которых свободно впускали в зал. Вот тогда точно начнется столпотворение. Пока же Тонио без труда пробрался к сцене, протиснувшись сквозь толпу, и уселся всего в нескольких футах от неистовствующего, грохочущего оркестра.
Теперь он слышал лишь музыку и пришел в настоящий экстаз.
И как раз в этот момент на сцене появилась высокая, статная фигура великого Каффарелли.
Очень многие с полным основанием считали этого ученика Порпоры[20] величайшим певцом в мире, и когда он шел к рампе в своем огромном белом парике и развевающемся карминном плаще, то казался скорее богом, а не царем, роль которого исполнял в данной пьесе. Красивый и изящный, он спокойно встал перед залом, пожиравшим его глазами. Потом откинул назад голову. Он запел, взяв первую мощную, нарастающую ноту, и весь театр тут же умолк.
У Тонио перехватило дыхание. Сидевшие вокруг него гондольеры не сдержали тихого стона и возгласов изумленного наслаждения. Звук на одной ноте нарастал и парил так, словно сам кастрат не мог остановить его. А наконец оборвав его, он ринулся в основную часть арии, кажется даже не взяв паузы, для того чтобы перевести дыхание, так что оркестр бросился догонять его.
Это был голос совершенно невероятный, не резкий, но яростный, неистовый. К концу арии почти совершенное лицо кастрата исказилось едва ли не до безобразия.
Накрашенное и напудренное лицо это, обрамленное лавиной белых кудрей, любой бы назвал благородным, даже изысканным, однако в глазах певца горел незримый огонь. Каффарелли расхаживал взад и вперед по авансцене, равнодушно кланяясь тем, кто махал, аплодировал и кивал ему из лож, бросая короткие взгляды то в партер, то на ярусы и словно рассеянно размышляя о чем-то.
Когда запела примадонна, опера вдруг утратила все свое очарование. А может, это произошло потому, что Тонио видел суету в кулисах, дам с гребнями и щетками, гримершу с пуховкой, снова и снова припудривающую Каффарелли.
Но тоненький, слабенький голосок примадонны бесстрашно следовал за мелодией, выбиваемой композитором из клавесина. Каффарелли встал перед певицей, спиною к ней, словно ее и не существовало, и, не скрываясь, зевнул. Мгновенно поднявшийся ропот людских голосов почти заглушил музыку.
Тем временем вокруг Тонио все настоящие ценители происходящего действа стали давать грубоватые, но проницательные оценки. Верхние ноты у Каффарелли сегодня были не очень хороши, а примадонна вообще просто ужасна. Какая-то девушка предложила Тонио чашу с красным вином, и, шаря по карманам в поисках монеток, он взглянул на ее лицо под маской и подумал: «Беттина! Конечно, это она!» Но потом вспомнил о словах отца и о только что оказанном ему доверии и, густо покраснев, опустил глаза.
Каффарелли снова вышел к рампе. Откинул назад красный плащ. Сверкнул глазами на первый ярус. А потом еще раз взял ту великолепную первую, трепещущую ноту крещендо. Тонио видел, как блестит пот у него на лбу и как под сверкающим металлом греческих доспехов расширяется могучая грудная клетка.
Клавесин запнулся; среди струнных произошло замешательство: Каффарелли пел невпопад с музыкой. Но он пел нечто такое, что немедленно казалось знакомым. Неожиданно Тонио понял — как и все вокруг, — что он исполняет только что законченную примадонной арию, безжалостно ее высмеивая. Струнные пытались прекратить игру, ошарашенный композитор отнял руки от клавиш. Между тем Каффарелли вполголоса напевал мелодию, повторял ее трели с такой вызывающей легкостью, которая сводила на нет все усилия певицы.
Пародируя ее долгие верхние ноты, он вкладывал в них чудовищную мощь, отчего они становились совершенно неблагозвучными. Девушка залилась слезами, но не ушла со сцены. Остальные актеры побагровели от смущения.
С галерки раздалось шиканье, а за ним крики и свист. Поклонники примадонны принялись топать ногами и яростно потрясать кулаками, тогда как поклонники кастрата катались от смеха.
И, завладев наконец вниманием каждого мужчины, женщины и ребенка в зале, Каффарелли закончил свой бурлеск монотонной, «в нос», пародией на нежный, тихий каданс[21] примадонны, а затем начат собственную aria di bravura[22] с просто уничтожающей силой.
Тонио тяжело опустился на сиденье. Его рот растянулся в улыбке. Вот оно! Вот он, сказал бы любой, кто когда-либо услышал его, вот он, человеческий инструмент, столь мощный и столь великолепно настроенный, что все остальное меркнет в сравнении с ним.
Когда певец смолк, аплодисменты раздались из всех самых отдаленных уголков здания. Крики «браво!» неслись по всему залу. Преданные поклонники девушки пытались сопротивляться этому натиску, но были вынуждены быстро уступить.
И повсюду вокруг Тонио раздавались грубые, неистовые хвалебные возгласы:
— Evviva il coltello!
— Evviva il coltello! — закричал и он. «Да здравствует нож!», вырезавший из этого человека его мужское естество, чтобы навеки сохранить дарованное ему победоносное сопрано.
* * *
Потом Тонио долго сидел в полном оцепенении. Его не задело даже то, что Марианна, сославшись на усталость, отказалась от приглашения в палаццо Лизани. Величие этой ночи заполняло всю душу, не оставляя места для иных удовольствий, и оно останется в ней навеки, а все мысли и мечты Тонио будут посвящены Каффарелли.