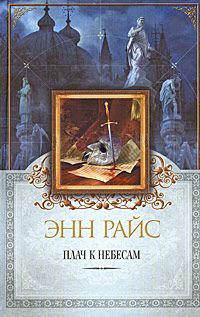И все было бы совершенно замечательно, если бы не происшествие, случившееся в тот момент, когда они протискивались к дверям. Услышав, как кто-то решительно и отчетливо произнес возле самого его уха: «Вылитый Карло», Тонио обернулся и, несмотря на обилие людей, сразу понял, что слова эти принадлежали Катрине, уже разговаривавшей в тот момент со старым сенатором. И она подтвердила догадку: «Да, да, мой дорогой племянник, я просто сказала, что ты очень похож на своего брата».
В оставшиеся дни карнавала Тонио ежевечерне отклонял любые другие предложения и отправлялся слушать Каффарелли.
Каждый театр в Венеции давал одну и ту же оперу целый сезон подряд, но ничто не могло соблазнить Тонио посмотреть хотя бы часть любого из этих представлений. Да и почти все общество возвращалось в театр снова и снова, чтобы увидеть покорившее всех волшебство.
Ни одну арию Каффарелли ни разу не спел одинаково, и его демонстративно выражаемая скука между этими пронзительными моментами казалась скорее отчаянием, чем просто позой, направленной на то, чтобы кого-то позлить.
В вечной неутомимости великого певца было что-то зловещее. В основе его постоянной изобретательности лежала безысходность.
И снова и снова, одной лишь собственной волей, он творил чудо.
Он выходил к рампе, разводил руки, брал на себя управление залом и, игнорируя существующую партитуру, сбивая с толку толпящихся за его спиной исполнителей, создавал в одиночку, без чьей-либо помощи, музыку, которая на деле была сердцем и душой оперы.
И, проклиная его как только возможно, все знали, что без него ничего этого не было бы.
К моменту закрытия занавеса композитор зачастую окончательно выходил из себя. Прячась в тени, Тонио слышал его крики: «Вы поете не то, что я пишу, вы вообще не обращаете внимания на то, что я написал!»
— Так напишите то, что я спою! — рычал неаполитанец. А однажды даже выхватил шпагу и буквально погнал композитора к дверям.
— Остановите, остановите его, а не то я его убью! — кричал композитор, отбегая назад в проход между рядами кресел. Но все могли видеть, как он напуган.
Каффарелли отвечал раскатистым презрительным смехом.
Он был воплощением ярости, когда тыкал кончиком рапиры в пуговицы на камзоле композитора, и ничто, кроме безбородого лица, не выдавало в нем евнуха.
Но все, и даже этот молодой человек, знали, что это Каффарелли поднял оперу до недосягаемых высот.
Каффарелли преследовал женщин по всей Венеции. В любой час появлялся он в палаццо Лизани, чтобы поболтать с патрициями, а те кидались налить ему вина или подставить кресло. Тонио, всегда оказываясь поблизости, не сводил с певца восхищенного взгляда. Он улыбался, замечая, как щеки матери полыхают румянцем, когда она провожает Каффарелли глазами.
Кроме того, Тонио было приятно видеть, что мать счастлива от такого чудесного времяпрепровождения. Теперь она не сидела, уставившись в угол, не смотрела на все с подозрением, она даже танцевала с Алессандро.
И Тонио, заняв свое место в величественной веренице роскошно разодетых мужчин и женщин, которые заполняли парадную гостиную дома Лизани, выполнял четкие па менуэта, завороженный волнующим зрелищем укрытых кружевными оборками грудей, точеных ручек и нежных щек. По воздуху плыли бокалы шампанского на серебряных подносах.
Французское вино, французские духи, французская мода.
Разумеется, все просто обожали Алессандро. Скромно одетый, он казался воплощением простоты, но при этом был столь величествен и исполнен достоинства, что Тонио не мог им не восхищаться.
Вечерами, оставшись наедине, они подолгу разговаривали.
— Я боюсь, что ты скоро заскучаешь в нашем доме, — сказал ему однажды Тонио.
— Ваше превосходительство! — рассмеялся Алессандро. — Я ведь вырос отнюдь не в великолепном дворце. — Взгляд певца скользнул по высокому потолку его теперешней комнаты, по тяжелым зеленым занавесям у кровати, по письменному столу из резного дерева и новому клавесину. — Ну, может быть, проведя здесь лет сто, я и затоскую.
— Я хочу, чтобы ты остался здесь навсегда, Алессандро, — прошептал Тонио.
Потом, в тишине, к Тонио пришло странное, невыразимое словами понимание того, что этот человек, удостоенный чести выступать под сводами собора Сан-Марко, был собою недоволен и мучительно стремился к совершенству. Не удивительно, что его отличала такая тихая, скромная серьезность. Он сам стал воплощением роскоши, благонравия и красоты, всю жизнь окружавших его.
Так почему бы ему и не ходить по дому Катрины с таким непринужденным изяществом?
«Но что на самом деле думают о нем люди? — задавался вопросом Тонио. — И что они думают о Каффарелли?» Самому Тонио почему-то мучительно было представлять Каффарелли в постели с любой из роящихся вокруг него женщин. Казалось, стоит певцу пальцем поманить, как любая последует за ним.
«А что бы я делал с любой из этих женщин?» — размышлял Тонио, вдыхая в партере театра аромат сотен Беттин и замечая, что многие дамы и на него самого бросают кокетливые взгляды поверх кружевных вееров.
«Всему свое время, Тонио, всему свое время!» — тут же останавливал он себя. Он бы предпочел умереть, чем предать своего отца. Все для него было озарено волшебным светом новой ответственности и нового знания. А по ночам в своей комнате он вставал на колени перед Мадонной и молился: «Пожалуйста, пожалуйста, не дай всему этому кончиться! Пусть все это длится вечно!»
Но уже наступало лето. Зной становился изнуряющим. Карнавал скоро должен был закончиться, оборваться так резко и внезапно, как рассыпается карточный домик. Грядет дачный сезон, когда все знатные семьи перемешаются на виллы, расположенные вдоль реки Брента. Никому не хотелось проводить лето вблизи вонючих каналов, над которыми неистребимыми тучами висел гнус.
«Но тогда мы опять останемся одни. О нет, пожалуйста, не-е-е-т!»
* * *
Как-то утром, когда оставшиеся дни карнавала можно было сосчитать на пальцах одной руки, Алессандро, войдя в комнату Тонио вместе со слугами, принесшими шоколад и кофе, присел у его кровати.
— Твой батюшка очень тобой доволен, — сказал он. — Все сообщают ему, что ты ведешь себя как идеальный патриций.
Тонио улыбнулся. Ему хотелось увидеть отца. Но синьор Леммо уже дважды говорил ему, что это даже не обсуждается. В то же время Тонио казалось, что в последнее время отцовские апартаменты посещает необычно большое число людей. Среди них были поверенные, а также старые друзья. И ему это не нравилось.
Но почему он решил, что та долгая откровенная ночь должна породить новую реальность, в которой будет место частым беседам? Ведь отец по-прежнему принадлежал государству. Раз он подвернул лодыжку и теперь не мог выходить по своему желанию, значит, само государство должно являться к нему. Наверное, это и происходило.
Но у Алессандро на уме было что-то другое.
— Ты бывал когда-нибудь на вилле Лизани близ Падуи? — спросил он.
Тонио затаил дыхание.
— Ну так вот — начинай укладывать вещи. И если у тебя нет костюма для верховой езды, пошли Джузеппе за портным. Твой батюшка хочет, чтобы ты провел там все лето, а твоя тетя будет счастлива тебя принять. Но, Тонио, — продолжал Алессандро (по настоянию Тонио он давно уже перестал использовать формальное обращение), — придумай, о чем можно порасспрашивать твоих преподавателей. Они чувствуют себя ненужными и боятся увольнения. Этого, конечно, не случится: они едут с нами. Но попробуй внушить им, что они тебе по-прежнему нужны.
— Мы едем на виллу Лизани!
Тонио вскочил и кинулся на шею Алессандро. Тот невольно отступил на шаг, а потом неспешно дотронулся до волос мальчика, отводя их со лба.
— Никому этого не говори, — прошептал он, — но я взволнован так же, как и ты.
После того как раны на запястьях затянулись, Гвидо остался в той же консерватории, где вырос, и посвятил себя преподаванию с такой строгостью, какую едва могли вынести немногочисленные его студенты. Он был гением, но не знал сострадания.
К двадцати годам он выпустил несколько замечательных учеников, поступивших в хор Сикстинской капеллы.
Эти кастраты с посредственными голосами без занятий с Гвидо и его преподавательского чутья не достигли бы ничего. Но как бы благодарны ни были они за обучение, тем не менее панически боялись молодого маэстро и радовались, что покидали его.
И действительно, все ученики Гвидо время от времени, если не постоянно, ненавидели его.
Но преподаватели консерватории его любили.
Если человеку вообще по силам было «создать» голос там, где его не дал Бог, то это мог сделать Гвидо. Снова и снова коллеги с изумлением убеждались, что он способен взрастить музыкальность там, где напрочь отсутствовали оригинальность и талант.
К нему направляли тупиц и тех несчастных малышей, которые были оскоплены задолго до того, как выяснялось, что у них совсем нет голоса.