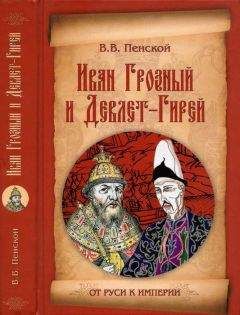XIII. Прения о вере
5 июля с самого утра в Москве опять творилось что-то необыкновенное. Утро же выдалось погожее, ясное, но не жаркое: легким ветерком перегоняло по небу беловатые разрозненные тучки, которые на минуту заволакивали собой солнце, а потом снова уносились в неведомую даль.
На этот раз не было ни набатного звона, ни барабанного боя, а между тем народ валил к Кремлю неудержимыми волнами. Впереди этого моря голов идут вожаки, седые головы и бороды, словно серые гусаки впереди бесчисленного гусиного стада. Во главе выступает знакомый нам площадной оратор Никита Пустосвят. В руке у него высокий крест, какой бывало носили перед патриархом Никоном, но только истовый крест, осьмиконечный, а не «латынский крыж». За Никитою несли старинное, тоже истовое евангелие; за евангелием, на могучих плечах и раменах ревнителей двигалась, плавно колыхаясь, огромная, страшная, закоптелая икона — изображение «Страшного Суда», на которое православные взирали с ужасом. Да и как не ужасаться! Вон черти гонят в ад целые своры неверных царей, латинских архиереев, самого проклятого папежа, грешных князей, бояр, воинов… А в аду уж жарят грешников: кто в смоляном котле кипит, кто горячую сковороду лижет, кто за ребро повешен… А там кого съел зверь — зверь того тащит, кого сглотнула рыба — рыба тащит… За «Страшным Судом» несут образ Богородицы, лика почти не видать, так закоптела она от свечей и ладану… Виднеются только белки глаз величиною в добрую ложку. За Богородицею волокут вороха старых безграмотных книг, в которых немало навранного и перевранного; но это-то и дорого, это все истовое, старинное, чего Никонишко — еретик не успел испортить: тут и «во веки веком», а не еретическое «во веки веков», и матушка «сугубая аллилуия», и батюшка аз в «Верую», и киноварные заставки в косую сажень… Тут же волокут налои с Адамовою головою на покрывальном плате, подсвечники со свечами в конскую ногу…
За ними валом валит народ, ахает, крестится, дивуется…
— Экие постники, святые-то отцы! На что только и дышут!
— Да, не толсты брюха-то у них, не как у нонешних, новеньких!
Ввалившись в Кремль и затопив его почти весь своими зипунами, однорядками, рясами да подрясниками, толпа главным образом скучилась у Архангельского собора. «Отцы» — вожаки, усталые, но гордые, торжествующие — бросились расставлять свои налои, раскладывать на них закоптелые образа, захватанные и прокапанные воском истовые книги. Запылали свечи в конскую ногу. Толпа напирает. Слышатся благочестивые и неблагочестивые возгласы…
— За батюшку «аза» постоим! За перстное сложение головы положим!
— Что ты прешь, леший! Кишки выдавить, что ли, хочешь!
— Да ты не ори!
И вместо перстного сложения, тут же — кулак в морду, да под микитки, да в рожество, да за волосы…
Царевна Софья Алексеевна видит все это из окна и злится. Она посылает узнать, что патриарх? Ей докладывают: святейший патриарх в Успенском поет молебен и плачет.
— Что же никто не выходит на собор, с отцами говорить о вере?
— Страху ялися, толстобрюхие!..
— Да мы их за косы, натко-ся! — слышатся похвальбы в толпе.
Трение зипуна о зипун за версту слышно. Запах дегтя, ладана, деревянного масла, лука невыносимый. Но вот кто-то робко выходит из Успенского собора. В руках у него бумага.
— Кто это идет? Какой поп?
— Да это Василий, верхуспасский протопоп.
Дрожа всем телом, протопоп поднимает вверх бумагу.
— Православные! Отцы и братия! Меня святейший патриарх прислал… Указал вычесть вам обличение на Никиту — расстригу, на Пустосвята, как он отрекся от раскола…
Никита побагровел, и крест задрожал в его руках.
— На Никиту! Обличение! Вот же тебе! Вот! — накинулись стрельцы на протопопа.
— Каменьем его, еретика Ваську!
— В ухо! В морду!
— Стой! Стой, братцы! — вступился за своего обличителя сам Никита. — За что его бить? Он не сам собою пришел, патриархом прислан: пущай читает.
Полумертвого от страху, с подбитым глазом, протопопа поставили на скамью. Но его никто не слушал. Гам, рев, крик неизобразимые… А толпа все напирала…
— Что же собор! Для — че нейдут патриарх, цари, весь синклит?
— Оробели! — кричал Никита, видимо торжествуя. — Какие они пастыри? Наемники! Что их церкви? Хлевы свиные, еретические амбары, капища латынские!
Но вот из Успенского собора стал выходить «освященный собор», высшее духовенство — митрополиты, архиереи. Перед ними двигалась громадная процессия с книгами: это патриарх велел нести через Красное крыльцо в Грановитую палату книги греческие, еврейские, славянские, чтобы показать народу, какими сокровищами обладает церковь для борьбы с ее противниками, с мятежниками.
— Ишь похваляются! — ядовито замечал Никита, указывая на книги. — Много наплетено там от грамматики да арифметики… Нам не арифметикию подавай, а истовый крест… А то на! Плевать мы хотим на их арифметикию да грамматикию!
Но патриарха не видно было в этой процессии с книгами: боясь за свою жизнь, он прошел в Грановитую палату по Ризположенской лестнице.
Скоро раскольников позвали во дворец: посредником между ними и двором был Хованский.
Громыхая сапожищами, словно каменными ступами, кашляя и сморкаясь, по Домострою, «вежливенько, тремя персты, в руку и на пол, к сторонке», творя истовое крестное знамение ото лба до пупа и от правого плеча к левому, ввалились в Грановитую палату «отцы» и братия с ревнители, аки стадо велие. Впереди, как и по городу, выступал с крестом Никита, аки Голиаф некий. За ним «отцы» с евангелием, со «Страшным Судом», с налоями и свечами в косую сажень, разложили книги по налоям, кресты.
Как ни был смел и дерзновен о Христе Никита, но при вступлении в палату и он смутился. Ему представилось не виданное никогда зрелище: на возвышении, на державных, на чертожных местах не цари восседали, а бабы!.. Слыханное ли это дело!.. На царских тропах, кто же? Две девки! Да как после этого и земля еще держится! На первом царском месте сидела Софья — царевна, на втором ее тетка Наталья. Софья посадила тетку рядом с собой затем только, чтоб унизить ненавистную ей мачеху, «медведицу», мать младшего царя. И «медведица» сидит гораздо ниже, рядом с царевной Марьей Алексеевной и патриархом, и сидит она такая бледная, хмурая, приниженная. Но и Софья заряжена: в душе она адом дышит и на раскольников, и в особенности на старого Тараруя, который невидимо заправлял всею этою историей, этим «шумством», а теперь сидит тут в числе бояр чуть ли не первым после Васеньки Голицына. Только сердце ее и распускается немного, словно маков цвет, когда она поймает ласковый взгляд серых очей своего ненаглядного Васеньки. А он сидит, таково хорош! Плечи, что косая сажень, большая бородища расчесана волос к волосу и серебром отдает… А что Волошка в воде видела? Васенька сидит рядом с нею, высоко-высоко, и на седоватой головушке Васеньки златой венец…
— Почто пришли в царские палаты и чего требуете от нас?
Она вздрогнула. Это говорил патриарх, да так тихо-тихо.
И Никита вздрогнул, как конь, почуявший боевой призыв.
— Мы пришли к царям — государям побить челом об исправлении православной веры, чтоб дали нам свое праведное рассмотрение с вами, новыми законодавцами! — дерзко сказал фанатик.
— Вот так отрезал! — послышался шепот в задних рядах.
— Ай да Микита! В карман за словом не полезет…
Софья повела глазами на говоривших, и они прикусили языки… «У! Глазок!..» Патриарх обвел глазами все собрание и заговорил, не глядя на Никиту:
— Чада моя и братия! Это дело не ваше: не вам подобает исправлять церковные книги. Простолюдины не судят архиереев: архиереев токмо архиереи и судят, а вы должны покоряться матери нашей, святой церкви. У нас книги исправлены с греческих и наших харатейных книг по грамматике, а вы грамматического разума не коснулись и не знаете, какую он содержит в себе силу.
Это указание на невежество коновода раскольников взорвало его: Никита вспыхнул, и даже крест дрогнул в его руках.
— Мы пришли не о грамматике с тобою говорить, а о церковных догматах! — закричал он. — Вот я тебя спрошу, а ты отвечай: зачем на литургии вы берете крест в левую руку, а троичную свечу в праву? Али огонь честнее креста!
— Ну, загнул! — опять послышался шепот. — Разогни-ка!
— Ижь и язычок же! Бритва! Н-ну!
— А и впрямь: что честнее, огонь или крест?
— Вестимо крест…
Никита между тем гордо ждал ответа. Не желая говорить с грубым мужиком, патриарх перенес свой взгляд на сидевшего ближе к Никите холмогорского епископа Афанасия. Тот понял взгляд патриарха.
— Ты спрашиваешь, Никита, что честнее… — начал было он.
Но Никита бросился на него с азартом и замахнулся рукою…