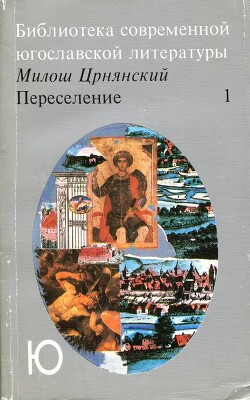Вскоре она могла точно распознать наступление заката и рассвета, за которым, мучимая бессонницей, наблюдала, подходя, словно сомнамбула, к окну; иногда она вставала после полуночи и пугала слуг, не оставлявших ее по ночам одну.
Опротивев самой себе, она все-таки еще не верила в приближение смерти, в то, что это сидение перед окном — и есть уже медленное умирание. Когда она просовывала руку сквозь решетку, ощущая нагретый солнцем воздух, у нее было такое чувство, будто она может слиться с теплым лоном реки, всем своим существом она ощущала и песок, и заросли камышей у островов, и ветви ивняка, густо покрывшегося почками, и зной на вершине горы, а по вечерам, когда она раздевалась и ложилась, то вбирала в себя глубокую, неоглядную небесную синь, испещренную звездами и созвездиями, которые, мерцая, чередой проплывали перед ее окном.
В ее упорном молчании таилась вера, что врачи ее спасут и что она поправится. Но она предчувствовала, что ее былая красота исчезнет, а на теле останется ужасная открытая рана.
Не без слезных мольб вырвала она у кира Аранджела обещание, что он поедет к патриарху Шакабенте и будет просить разрешение на ее развод с одним братом и на брак с другим.
Дети ее мало заботили, желание видеть их посещало ее не часто. Ей было только жаль, что это девочки и, став взрослыми, они будут страдать так же, как и она.
В те дни, когда Дафина сидела, вся разбитая, в ней преобладали два чувства: безграничная зависть к обоим мужчинам, которых она любила и ненавидела, и полнейшее презрение к себе.
Нужда, одиночество, болезнь — вот что такое женская доля, да еще жалкое ожидание то одного мужчины, то другого. Она вспомнила вдруг родной дом в Триесте, где была то разряженной куклой, то служанкой, которая вечером раздевала, а утром одевала своих братьев и старого отчима, а по субботам мыла безмены и каменные прилавки. Вспомнила и первое время брака, когда была так счастлива.
Она рожала детей, переселялась без конца с места на место, никогда не зная, куда и зачем. Радости и печали приходили совершенно случайно и редко по ее воле. И эта ее измена, тайные утехи с другим мужчиной тоже пришли с неотвратимостью рока, не по ее, а по его воле. Вещь, она и есть вещь, такими же вещами будут и ее дочери, их тоже будут брать и бросать, целовать и покидать, миловать и избивать без толка и смысла. И разве любовь к ней не была развлечением для обоих братьев?
И все-таки будь Вук Исакович дома, он не гнушался бы ею. Весеннее тепло, река напомнили бы ему молодость. И Дафина, даже такая, какая она сейчас — желтая, подурневшая, постаревшая, для него оставалась бы красивой. Он переносил бы ее на руках от постели к окну. Любил бы и целовал детей. Он положил бы ее под стреху, в затишек на солнышко. А она, закрыв глаза, увидела бы еще раз залитые лунным серебром леса, заснеженные поля за стенами Осекской крепости, лисий след, поскакала бы на лошади, чувствуя за собой его дыхание — дымку прошлого. И уж он, наверное, не оставил бы ее. Положил бы свою широкую ладонь ей на живот, и боли утихли бы.
Но, проливая слезы по мужу, Дафина не скрывала от себя, что больше жаждет другого, с которым провела лишь одну ночь, поначалу показавшуюся ей такой же ужасной, жалкой и отвратительной, как и его гладкая, желтая, твердая, как янтарь, рука, сперва такая робкая в темноте.
Вук Исакович ушел, а вместе с ним исчезли, затуманились картины ее прошлой жизни и горы, которые она видела в последний раз при расставании с ним.
Остался лишь Аранджел Исакович со своими необыкновенными руками, которым она отдалась сперва от скуки, но о которых с каждым днем вспоминала все чаще. Увы, все напрасно! Как вещь принесли ее в дом, как вещь вынесут, чтобы освободить место для другой, которую будут также обволакивать словами, осыпать серебром, униженно просить и, дрожа, целовать. Потому-то она и хотела как можно скорей хотя бы обвенчаться.
Что касается Аранджела Исаковича, то он был почти убежден, что сойдет с ума.
Того, что случилось, никто не мог ни предречь, ни предвидеть. Так хорошо возведенная башня блестящих торговых дел рухнула ему на голову. Удовлетворение животной похоти, годами мутившей ему рассудок и не дававшей покоя по ночам чарующими сновидениями, Аранджел Исакович представлял себе совсем по-другому. А конец любви к невестке, которую он годами в себе подавлял и с которой так долго носился, конец этой своей болезни он воображал приятным, не сопровождающимся никакими бедами.
И хотя время от времени взбудораженный, раздувая ноздри, он думал о том, что эта грешная страсть погаснет после нескольких ночей, проведенных с невесткой, и даже порой со злорадством помышлял о том, что прогонит ее, как обычно, насытившись, прогонял своих молодых служанок, в глубине души он чувствовал, что этого не произойдет, что он не скоро сможет расстаться с Дафиной.
Вечные переезды еще при жизни отца, необузданность брата, вся жизнь семьи, родичей и прочих соплеменников, переселившихся вместе с ними из Сербии и вернувшихся обратно в Сербию, казалась Аранджелу Исаковичу чистым безумием. Видя вокруг одни топи и болота, людей, что рыли землянки, чтоб весною или с первым снегом снова двинуться дальше, Аранджел Исакович ощущал в себе неистребимое желание стать на пути всего этого, где-то остановиться самому и заставить остановиться других.
Непрерывно ссорясь с отцом, который передвигался вместе с армией и со своим сыном Вуком, преуспевавшим на военной службе, Аранджел Исакович возненавидел всех, кто шел за ними. Плавая на своих пестрых барках вдоль всего побережья, он вел еще более пеструю торговлю и привык все презирать и ни к чему не привязываться. Постоянная перемена мест, жилья, людей, с которыми он встречался, сделали его самоуверенным и кичливым, потому что он, желтый и смуглый, с костлявыми руками, хоть и был слабее других, не менялся и оставался прежним.
А еще Аранджел Исакович отчетливо сознавал сверхъестественную силу своих талеров, ибо там, где он вытряхивал их из мошны, появлялись его причалы и его дома. Все двигалось только по его воле и по его предначертаниям, и вскоре ему стало казаться, что и дожди лили, и весны наступали тогда и так, когда и как он того хотел. Возненавидев солдат, которые по приказу разряженных офицеров шли драться с турками, французами, пруссаками и венграми, он старался причинить вред всем, кто снимался с места. Когда брат и некоторые его друзья начали поговаривать о России и о переселении в Россию, он первым стал писать доносы военным властям и оговаривать их перед католическими епископами.
Аранджел Исакович хотел всех людей, привыкших уже к цыганскому образу жизни, связать торговлей. Особенно ненавидел он уездных начальников, которые уводили его людей на войну, а еще больше тех, за кем трогалось все семейство. Деньги он давал только торговцам и ремесленникам, которые осели и больше не помышляли о возвращении в Турцию, куда он продолжал наезжать по торговым делам.
При помощи денег он мешал переселению с места на место семьи и родичей, связывая их по рукам и ногам и принуждая оседать в назначенных им городах вдоль рек. Непрерывно плавая на своих барках с мешками серебра, он приглядывал подходящие города и упорно скупал там дома, большей частью вблизи церкви, скотные дворы, огороды и гостиницы, под которые поначалу давал любые займы.
Так он недавно купил дом в Пожуне, а также в Буде — огромный каменный дом с лабазами и погребами на высоком берегу реки. Он больше и слышать не хотел о возвращении в Турцию, а тем более — о переселении в Россию.
В погоне за устойчивостью и постоянством Аранджелу внезапно удалось осуществить свое давнее желание — овладеть телом своей невестки, которую он любил и о которой мечтал, хотя ему и приводили множество женщин, стоило ему где-нибудь заночевать или задержаться на два-три дня по торговым делам.
На дне его души, как на дне реки, по которой он уже столько лет плавал, лежало, подобно тяжелому камню, тело Дафины, оно задерживало его барки, его добро, его дела и помыслы — дивное, белое тело, с которым ему не хотелось расставаться.