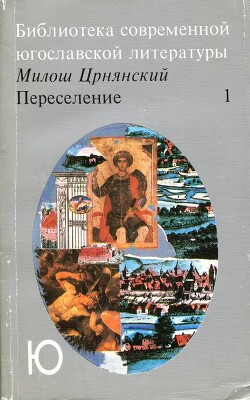Оставляя позади села, они, случалось, проходили мимо огромных печей и литейных, откуда выбегали поглазеть на них одетые в кожу, закоптелые и черные как черти работники. Огромные зарева, встававшие над печами, по вечерам освещавшие горные вершины, бросали отблески на их ночной бивак, и им мерещились во сне невиданные красные звери, пылающие воды, горящие волы и буйволы, ад.
Разнузданные и разъяренные в начале похода, теперь на чужбине они стали тихими и кроткими. У них не было больше сил ломать и крушить, и женщин они больше не трогали. Сбившись в кучу, они робко стояли посреди села, братаясь и заводя дружбу со всяким, кто к ним подходил. Никогда еще здесь не видывали более смирных солдат.
К тому же каждый день их изматывали учения. Изголодавшиеся — ели и пили они от случая к случаю, — с натертыми ногами, они вошли в город Грац пожелтевшие, высохшие, с налитыми кровью мутными глазами. Полк потряс жителей Граца своим сверкающим, специально для этого случая начищенным оружием, устрашающим беглым шагом и дружными криками. А после их ухода к императрице был послан фельдъегерь.
Устав от учений и страдая коликами, Вук Исакович вошел с полком в Австрию. Он все чаще слезал с седла, покидал своих гарцевавших впереди офицеров и садился в повозку, которая везла его, точно покойника, в тучах вздымавшейся за полком пыли.
Едучи позади, точно огромный бурдюк с вином, Вук Исакович воспринимал мир как во сне.
Он уже много лет привык отправляться на войну вот так, на повозке, не видя в этом ни цели, ни смысла, подчиняясь какому-то железному закону, чужой воле.
Хотя на чужбине у него не было никого и ничего своего, он все-таки обнаруживал там следы своих солдат, да и свои собственные. Он снова видел города, где уже однажды побывал, где когда-то дожидался зари или располагался на ночлег, где несколько лет назад проходил с полком между крепостными стенами, по освещенным призрачным лунным светом дорогам.
Он узнавал контрабандистов и паромщиков; натыкался на давно позабытых своих любовниц и любовниц своих товарищей; на места, где прежде кутил и где порой случались несчастья. И даже когда он проезжал по совсем незнакомым краям, задремывая под ясным солнышком и мучаясь от резей в животе, перед ним точно призраки вставали конюшни, дома, забитые заразными больными и стонущими ранеными, дождливые ночи — все, что было пережито раньше.
Его ничто уже больше не заботило, потому что он ошалел от бешенства и отчаяния. И не только от того, что его оскорбили и мучили в Печуе, но еще и от того, что ему не дали чина подполковника, на что он, во всяком случае, мог рассчитывать, принимая во внимание свой возраст и обещание, данное ему в Варадине.
Вспоминая о своей семье и думая о ней, Вук Исакович понимал, что с ней разорвано окончательно. Шепни ему кто-нибудь, что его жена и дети умерли, он поверил бы, одиноко трясясь в своем возке, где он лишь с трудом мог вытянуться из-за груды треуголок, гайтанов, котелков и седел. Размышляя о своих близких, он сознавал, что принадлежит теперь другим, тем, кто посылает его то туда, то сюда, посылает и его, нелепо вырядившегося офицера, и этих четко отбивающих шаг земляков, которые поднимают такие тучи пыли, что он видит одни только их ноги.
Ему стало в конце концов казаться, будто все замерло, только он один едет этой тряской дорогой мимо лугов, лесов и полей, едет куда-то без цели и смысла. Далеко впереди слышался мерный ритм беглого шага, бряцание оружия и громкое, дружное скандирование:
— Ма-ри-я, Ма-ри-я, Те-ре-зи-я, Те-ре-зи-я!
Теплый ветерок обдавал его на перекрестках дорог, а при въезде в лес его окутывала приятная прохлада. Внизу на скатах и склонах гор виднелись селения, на вершинах — купола церквей, их заливал свет, будто ливень, принесенный ветром.
Хотя он точно рассчитал, сколько дней потребуется для перехода до места сражений, скоро стало недоставать и провианта, и денег; солдаты болели от перемены воды. Он завидовал своим беззаботно ехавшим впереди офицерам, а еще больше солдатам, которые даже не знали, куда идут. Вук Исакович теперь верил плачу и причитаниям на проводах, предрекавших ему, что это будет его последний поход, что на этой войне он умрет.
В те дни у него часто менялось настроение. Он то ехал впереди полка с офицерами, покуривая трубку, то вдруг заваливался в повозку, которая тарахтела за полком. Или, сдвинув набекрень треуголку, весело гарцевал в такт песни, а потом вдруг умолкал, отъезжал в сторону и свирепо бил коня сапогом в брюхо. Кряхтя от боли в тряской повозке, он воображал, будто уже несколько дней идет дождь и ему нет конца, будто этот дождь смывает, уносит с собой не только его жену и детей, но и всю его прошлую жизнь, и все, что он видел прежде. Глядя с повозки, как над высокими горами плывут облака, он воображал, что они катятся подобно лавине каменных глыб вниз, где белеют огромные пространства глубокого снега и лежат темные тени утесов.
Он поднимался за полком по еловому бору, потеряв из виду землю, села и долины. Его усыпляли поскрипывание кузова, ступиц и непрерывное потрескивание игл и веточек, устлавших всю гору легким, как мох, покровом, таким толстым, что колеса уходили в него на целую пядь.
В тишине, которую не могло нарушить даже движение полка, вершины гор в застывшем воздухе были отчетливо видны, и Вук Исакович весь день не спускал с них глаз. А они, точно бесконечные волны, все приближались, росли, их занесенные снегом обрывы будто низвергались в мрачные темные пропасти, разливаясь там еловым бором, где точно паводком покрывала пни, камни и ручьи высокая трава.
Предчувствуя близкую смерть, он, как это часто бывает с толстыми и здоровыми людьми, ни с того ни с сего впадал в тоску. Точно камень, сорвавшийся с горы, он казался себе ослабевшим, дряхлым и, лежа в неторопливо следовавшей за полком повозке, все больше предавался унынию.
Устремив взгляд на исполинские пики и синие их тени на снегу, он в теплые весенние дни ехал, вдыхая аромат елового бора и вспоминая прожитую им жизнь. Несмотря на страшные громады каменных утесов среди елей, ветви которых издали напоминали распростертые над бездонными пропастями крылья, все казалось тут необычайно легким, готовым вот-вот воспарить в небо.
Вообразив себя умирающим, он останавливал повозку, ложился у дороги меж старых пней и грел на солнце больной живот; надвинув на глаза треуголку, он часами наблюдал за кишащими у его головы муравьями.
Разжалобясь, он настолько уходил в свои мысли, что ему порой чудилось, будто его везут на сене в повозке. Мерещилось, что он сидит у самого себя в ногах под высокой елью и смотрит на свои огромные сапоги и обтянутые ляжки, на раскрытую волосатую грудь, на кружева рубашки и серебряные гайтаны, на черный плащ, на обвислые щеки и приплюснутый нос и разговаривает с самим собою, глядя в свои большие желтые глаза с припухшими веками и темными крапинками вокруг зрачков.
Молодость не только не приходила ему на память, но даже когда он силился ее вспомнить, неясные картины тут же исчезали и таяли, неизменно оттесняемые образами жены и детей. И золотая пора, проведенная в войнах с турками, тоже не вспоминалась, она смешивалась с картинами бесконечных мест, где он останавливался с женой и где родились их дети. Все в его прошлом казалось ему теперь бессмысленным.
Словно тени, следовали за ним жена, надоевшая ему донельзя, и дети, хотя и родные, но жившие всегда вдалеке от него. Он не знал, вернется он к ним или нет, но ощущение окончательного разрыва с семьей крепко засело в его мозгу. Зачем все это, если даже нет возможности сделать для них то, что хочешь, если с ними или без них все равно вертишься волчком по чужой воле. И он, такой, каким стал теперь, расфуфыренный и головастый, уже принадлежит не своей жене и детям, которые по нему плакали, а совсем другим людям, которым стоит только шевельнуть пальцем, и он тотчас же побежит без оглядки через горы и реки, не считаясь ни с собственными муками, ни с горем, в какое повергает своих близких, ни с безумием, которое подстерегает его впереди.