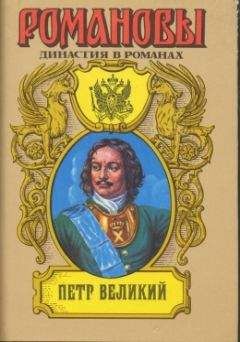В полиции, однако, его встретили с холодным недоумением.
– Не наше дело в домашние свары встревать.
– Живого места нету на ней. Он, почитай что, уже убил её. Для, ради Бога, для, ради младенца, коего носит она во чреве своём, прошу: помогите!
– Когда убьёт, тогда и жалуйте. В те поры и встрянем в сие дело.
Больше недели Памфильев не беспокоил Надюшу.
– Уедем! – молил отец Тимофей дочь. – Он побеснуется, да и махнёт рукой. Можно в Сибирь, можно на Украину… Мала ли наша земля? Я так укрою тебя, что никто не найдёт.
– Нет, он найдёт, – в жестоком страхе отвечала Надюша. – Ему все знатные люди друзья. Он всё может…
«Убить! – все чаще думал священник. – Нам с ним погибнуть, а Надюшу спасти». Но как только в представлении его возникал образ убитого человека, он содрогался всем своим существом и чувствовал, что не сможет выполнить задуманное. Тогда он возвращался к Богу и в иступленной молитве просил заступничества.
В воскресенье после обедни, когда все ушли из церкви, он пал ниц перед амвоном:
– Даю обетование, Господи Боже, до конца дней странничать во имя твоё, служить телом и духом всем людям твоим, воздавать за зло добром, утешать сирых и не отступаться до последнего издыхания от пречестного Евангелия твоего. А ты, Господи Боже, Отец мой Небесный, спаси дочку мою! Ведь она же и твоя дочка, Господи. Ведь и она и я – чада твои. Пожалей же нас, Отец наш всемилостивый…
Он приподнялся и снова стукнулся об пол лбом.
– Но ежели не такова воля твоя, малое моленье прими. Ежели не дал ты родимой Надюше моей многая лета, прими раньше мою душу. Хоть на единый час до того, как пошлёшь за ней! Не допусти сей муки голгофской. Не даждь ми зреть кончину Надюшину! Не даждь! Не даждь!
Он встал, торжественный, строгий и успокоенный, с непоколебимой верой в «правду Господню».
А вечером кто-то постучался в оконце его домика. Матушка открыла дверь и отшатнулась. Перед ней стоял Васька.
– Я ненадолго. Мне с Надеждой словом перекинуться токмо.
– При нас говори.
– Чай, муж волен в жене…
Он рванул за руку Надюшу и почти силой уволок её в горничку.
– Суздаль памятуешь? Ну и заруби на носу: нынче не вернёшься, быть родителю твоему на плахе. Слыхала, чай, уже и Досифей в застенке сидит?..
Надюша поняла сразу, что муж не шутит, и, чтобы спасти отца, решилась на страшный обман:
– Прости, отец, – вернувшись, поклонилась она родителям до земли. – Прости, матушка. Васенька обетованье даёт перед Богом, что ради чада грядущего по-хорошему жить со мной будет.
– Обетованье? – размашисто перекрестился отец Тимофей. – Так клянись же при мне, Василий Фомич!
Васька дал торжественное обетование.
«Слава те, Господи, что сотворил по молитве моей, – возликовал священник. – И ещё клянусь тебе, Спаситель наш, что и я обетованье исполню своё. Уйду, Господи, странничать в мир твой скорбный».
– От кого зачала? – едва переступив порог своих хором, крикнул целовальник.
– Побойся Бога… От тебя, Васенька!
– Врёшь!
– Богом клянусь!..
Васька повалил её на кровать.
– От кого понесла? Говори!
– Богом клянусь…
– Так ты ещё богохульствуешь!
Мутные глазки Памфильева налились кровью. Пальцы хищно царапнули воздух и вдруг впились в горло жены. Она хотела крикнуть, дёрнулась и широко раскрыла рот. Что-то хрустнуло, тяжко отозвалось в груди. Перед глазами пошли круги – зелёные, красные, чёрные.
– Батюш…
Чёрные круги пошли, чёрные круги… Стук в окно вывел отца Тимофея из молитвенного оцепенения.
– Скорее! – кричал псаломщик. – Скорее! Дочка ваша… Вашу дочку… Несчастье…
Через два месяца, немного оправившись, священник улучил минуту, когда матушки не было дома, и тайком ушёл на кладбище.
На могилке дочери он ткнулся лицом в землю и тихо, чтобы только душа Надюшина слышала, зашептал:
– Я виноват… Я на волю Спаса нашего положился… Не в Спаса нужно верить, а в охотницкий нож…
Сторож стоял в стороне. «Ума решился, – подумал он. – Про нож какой-то поминает, бедняга…»
Отец Тимофей улыбнулся блаженно:
– Не бойся, дочка. Тебе не будет больно. Я разожму персты его окаянные! Я… так вот… вытяну свою руку, эдак вот пальцы расставлю и сдавлю его горло. Он тогда, Надюшенька, разожмёт персты… И тогда ты вольно вздохнёшь… Обетованье даю! Доченька! Дочка!
Проведав через псаломщика, что стараньями Шафирова Ваську выпустили из острога и отправили под чужим именем куда-то на окраинную компанейскую фабрику, отец Тимофей в тот же день покинул Москву с твёрдой верой найти разбойника и разжать его страшную руку.
Глава 18
ЭКА ВЕДЬ ДУША ЧЁРНАЯ!
Марья Даниловна стала замечать, что государь охладевает к ней. Но она нисколько не опечалилась этим. За рубежом она близко сошлась со статным красавцем, Иваном Михайловичем Орловым. Дошло до того, что фрейлина – только бы удержать денщика подле себя – начала дарить ему драгоценности, принадлежавшие царице.
Екатерина догадывалась, кто обворовывает её, но из жалости молчала.
– Тяжёлая она, – шептала царица своей новой любимице, Авдотье Чернышёвой. – Покудова и трогать жалко…
Гамильтон была уверена, что никто не подозревает о её беременности, и всеми силами старалась не выдать себя. Но это никого особенно и не интересовало. Весь двор думал, говорил и жил одним – делом царевича и его споручников.
Сам Пётр почти не вспоминал об арестованных. Он часто шутил, принимал у себя сановников, зарубежных послов и купчин, посещал фабрики, сам лично отбирал сукна и обувь для армии, много работал над составлением указа об устройстве новых сухопутных и речных дорог.
Только поздними вечерами, когда никто его не видел, он давал волю своему горю. Стыд, гнев и лютая боль изводили его. Сознание, что сын – «изменник», не вмещалось в мозгу, сводило с ума. Вгрызшись зубами в подушку, Пётр метался на постели, задыхаясь от бессильной ярости и нетерпения.
И наконец он дождался.
Толстой сообщил из Дрездена, что разыскал царевича, и просил «безотлагательно отписать Алексею Петровичу, что он-де помилован царём и что за бегство не будет с него взыскано».
Нежное письмо, подкреплённое клятвами, было тотчас же отправлено.
Теперь, когда развязка приближалась, царь окреп духом. Больше он не вспоминал об Алексее как о сыне. Царевич стал чужим и враждебным человеком, от которого надо было как можно скорее отделаться.
Двадцать восьмого декабря 1717 года от Толстого прискакал снова гонец.
« Я его милость, – писал дипломат, – поднадул малость, сказавши, что ежели он не вернётся, то вы сами к нему изволите приехать. Весьма удручился он от сих моих слов. „Ежели, говорит, отец благословит на брак с Евфросиньей, приеду. Только пусть он не соизволит утруждаться, пусть не едет ко мне“ И я сам, суврен, так прикидываю пошто не посулить?»
Государь тут же написал сыну, что женит его на Евфросинье, «токмо бы не томил больше сердца родительского и торопился домой».
Проходя мимо горницы Гамильтон, Пётр услышал придушенные стоны.
– Недугуешь? – чуть приоткрыл он дверь.
– Животом маюсь! – вспыхнула Марья Даниловна – Должно быть, от солонины.
– Ну, поправляйся. Я погодя загляну. Может, и полечу.
К рассвету Гамильтон разрешилась сыном. Едва отдышавшись, она зажмурилась и сунула ребёнку в рот два пальца. Когда вошла служанка Марьи Даниловны, Якимовна, младенец был уже мёртв.
Гамильтон поправилась быстро. От недавней замкнутости её не осталось и следа.
Весёлая, как прежде, окружённая свитой поклонников, она укатила в Москву, куда отправился уже весь двор «на торжество помазания нового князя-кесаря – Ивана Фёдоровича Ромодановского». Ей и в голову не приходило, что один из преображенских офицеров, так раболепно исполнявший все её прихоти, везёт с собой подробное сообщение о «душегубстве».
– Вона, подумаешь, – рассмеялся царь, пробежав глазами донос. – С Орловым нюхалась! Кто Богу не грешен да бабке не внук.
Ночью, однако, он снова перечитал сообщение и крепко задумался. «Эка ведь душа чёрная у бабы! Родного сына жизни лишила».
Мысли начинали двоиться. Откуда-то вынырнул Алексей – странный, обросший шерстью и маленький-маленький, с ноготок. «Что за наваждение дьявольское! – сердился царь. – Сгинь, нечистая сила!» Но царевич упрямо подвигался всё ближе, исчезал и снова показывался где-нибудь в углу.
Вскочив с постели, Пётр забегал по опочивальне.
Ему становилось всё больше не по себе. Как будто без всякой причины вспомнился чистенький, прилизанный город Везель. Подле него – Марья Даниловна. В дальнем теремочке стонет Екатерина. Она рожает «Господи! – молится царь. – Подарит Петрушке братца, а мне второго сынка». И вот исполняется его моление. Марья Даниловна суетится подле государя: «Диктуй, Пётр Алексеевич!» Пётр обнимает фрейлину и диктует: «Объявляю вам, господа Сенат, что хозяйка моя в Везеле родила солдатёнка Павла… рекомендую его офицерам под команду, а солдатам в братство».