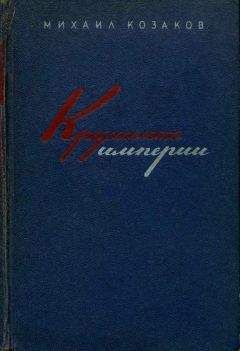У него было симпатичное, вызывающее доверие лицо доброго русского парня, — Ириша неодобрительно вспомнила в ту минуту мясистую фельдшерицу в пенсне, беспричинно час назад взъевшуюся на этого молодого человека.
— Послушайте, товарищ… У меня к вам просьба, — решилась она вдруг.
— В аккурат сделаю… пожалуйста! — внимательно и предупредительно посмотрел он на нее.
— Вы ведь не собираетесь сейчас уходить?
— Нет.
— А мне нужно на четверть часа. Вот там в углу мы с тем длинным артистом разбираем…
— Чтобы никто другой не трогал?
— Да, да, посмотрите, пожалуйста.
— Будет в аккурате!
— Спасибо. И вот вам моя муфта, — положила Ириша ее на подоконник, за кипой бумаг. — Поберегите ее, а то в буфете мне неудобно… могу забыть там по рассеянности. Посмотрите за ней?
— О чем беспокоитесь? В целости будет.
— Принести вам бутерброды? — предложила она в благодарность.
— Не откажусь, если что…
— Принесу!
В дверях она обернулась: страж ее муфты все так же сосредоточенно и быстро продолжал работу.
Через полчаса она возвратилась вместе с актером, неся из буфета «подкрепление» своему участливому товарищу.
— Вот и мы! И даже с печеньем!
Тот, к кому она обращалась, отсутствовал.
— Э, давайте печенье! — отозвался кто-то другой и протянул за ним руку.
Ириша оттолкнула незваного просителя, ища глазами курносенького молодого рабочего. Его не было у подоконника. Она подбежала туда и первым делом просунула руку за плотную стопку папок, где должна была лежать ее муфта.
«Фу, слава богу!» — муфта была на месте!
Она схватила ее и сразу же, по весу ее, прежде чем продеть в нее руку, поняла, что из нее вытащена драгоценная синяя папка вместе с ее, Иришиным, носовым платочком… Так оно и было…
— Что с вами? — недоумевал актер, увидев, как она болезненно побледнела.
— Сейчас… сейчас, — бормотала она, бросаясь в смежную комнату.
Но и там не было того, кого она искала.
Она возвратилась, выскочила за дверь — к часовому.
— Товарищ, никто не выходил отсюда?
— Вышедши. Вы сами, барышня, выходили.
— Но я пришла обратно!
— Понимаю.
— После меня выходив кто-нибудь? Низенький такой… круглолицый товарищ?
— Он.
— Ушел, значит? Давно?
— Минут, думаю, все двадцать будет.
Рыжебородый часовой, сидя на кожаном стуле, откуда-то притащенном, чистил, выстругивал вытащенную из кармана шинели грязную солдатскую ложку.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Первый выстрел Феди Калмыкова
Напротив университета св. Владимира уже целый год стоял высокий деревянный забор, огородивший место для какой-то постройки. Но ничего здесь почему-то не строилось, и прохожие привыкли к этой длинной, обезобразившей улицу изгороди и, пожалуй, забыли уже, что за место загородила она от взоров пешеходов.
Ранним утром 2 марта главный начальник военного округа генерал-лейтенант Ходорович разместил на огороженном забором пустыре казачью сотню, а поодаль от нее, в музее цесаревича Алексея, — роту солдат одного из киевских полков. Такие же войсковые заслоны были выставлены на Печерске, Подоле, Демиевке, Соломенке, — в разных концах города.
В штабе Ходоровича Киев уподобился шахматной доске, на которой каждая клетка могла быть в любую минуту под боем. Но бой не состоялся, шахматная партия не смогла начаться: вдруг оказалось, что у верноподданного генерал-лейтенанта не хватало одной фигуры — короля. Он стоял еще на доске, но уже за чертой ее квадрата: специальный телеграфный провод доставил в штаб копии депеш, в которых командующие фронтами советовали царю отречение.
Это было равносильно проигрышу, и генерал-лейтенант Ходорович, уже никуда не двигая, оставил на поле в бездействии ферзя — самого себя. Он вызвал к себе лидеров земства и Городской думы, купцов, адвокатов, профессоров учебных заведений, промышленников и чиновников и разрешил им образовать Общественный комитет. И — растерянный — забыл тогда распорядиться многочисленными воинскими заслонами и пикетами.
Тогда же, 2 марта, Федя Калмыков, входя в университетский подъезд и случайно обернувшись, увидел казачий патруль. Казаки выехали из-за забора и с места во весь опор помчались вниз по Владимирской. Через час-другой и вся сотня покинула огороженный пустырь, но этого Федя Калмыков уже не видел.
Он стоял в дверях двенадцатой аудитории — самой большой в университете, до отказа наполненной теперь студентами и курсистками, — и слушал речи товарищей.
Вблизи себя он заметил рослого, саженного «педеля» — лысого, с окладистой черной бородой. Этот университетский охранник был известен тем, что мог держать в своей памяти лица всех участников любой многолюдной сходки и, если не знал каждого по фамилии, мог безошибочно выдать полиции любого участника, ткнув в него пальцем: «Этот, ваше благородие, резолюцию писал, а этот голоса считал».
— Ай-ай, что же это они делают, господин Калмыков? — неожиданно обратился он к Феде тихим, предостерегающим голосом. — Да за такое дело! На самих же себя пенять придется, особливо — инородцам. Ай-ай, кабы слыхал такие речи господин ректор!
— Достаточно и вас одного! — огрызнулся Федя. — Бегите зовите полицию!
— Сама придет. Мне что? Разве можно так, господин Калмыков, в императорском университете?
— Гнать вас отсюда! — ненавидящим взглядом смерил его Федя.
На кафедре грузин-красавец Ковадзе, медик третьего курса, метал гром и молнии против петербургского царя, русской монархии и жестокого правительства. Фуражкой, лежавшей тут же, на кафедре, он размахивал так, что казалось — вот-вот он запустит ею в кого-нибудь из слушателей.
— … И довольно, я говорю, товарищи, митинга! Довольно митинга и довольно молчания. Довольно бездействия — вот что я говорю! Не надо прятать своих убеждений, своих сил, своей революционной энергии. Наш замечательный грузинский поэт Руставели говорил: что ты спрятал, говорил он, то пропало, что ты отдал — то твое. Не будем прятать своих сил, отдадим их революции, товарищи. Отдай — и она будет твоей! Твоей, русский! Твоей, грузин! — восклицал студент под гром рукоплесканий. — Твоей, поляк, будет революция!.. Мы, грузины социал-демократы, и наши товарищи русские, поляки, евреи предлагаем: не занятия теперь, а — в народ! К рабочим, к солдатам — все вместе под красное знамя! Митинг — на улицы, на заводы, в казармы!.. Студенчество должно иметь свою организацию, свой центр. Мы, социал-демократы, предлагаем организовать коалиционный совет, студентов всех учебных заведений. Из кого совет? Из собраний всех старостатов всех факультетов.
— Верно! — загудела сходка.
— Предлагаю всем старостатам собраться сейчас в девятой аудитории, — распоряжался все тот же Ковадзе.
Вихри враждебные веют над нами, —
начал песню чей-то звонкий, приятный голос, и сотни горячих голосов подхватили ее, разнося подлинному университетскому коридору.
— Пожалуйте в девятую, господин Калмыков. Вы же в старостате — ближе, значит, к тюрьме!
Чернобородый «педель»-великан, зло усмехаясь, неторопливо отошел от двери.
Федя догнал его.
— Ключи!
— А вы, господа бунтовщики, двери ломайте. Почему не ломать?
— Шпик проклятый! Ключи!..
— Выкуси!
Нужно было подпрыгнуть, чтобы ударить по лицу саженного «педеля», — и Федя в ярости, уже не распоряжаясь своими поступками, ударил его по щеке. Ударил — ожидая такого же ответа.
— Товарищи, хватай педеля! — бежали со всех сторон на помощь Калмыкову.
Но «педель» стоял на одном месте без движения, и только широкие плечи его вытягивались вверх и грузно опускались: он тяжело дышал.
— А за это вам четыре года каторжных работ будет, — вдруг сказал он своим обычным тихим голосом.
Он вынул из кармана связку пронумерованных ключей от аудиторий и бросил ее на пол.
— Увидимся, господин Калмыков! — зажал он в кулаке свою степенную бороду и отошел прочь, не оглядываясь.
— Ладно… — Федя поправил на голове съехавшую фуражку.
Кто-то прикоснулся к его локтю:
— Эсеровский поступок, Калмыков…
— A-а, это вы?
— Я не ожидал от вас. Право, не ожидал, коллега. Террор какой-то… да и против кого?
— Ударить по морде негодяя — это не террор…
— Это никуда не годится.
— Не извольте за меня беспокоиться, коллега Стронский.
— Я не беспокоюсь. Я сожалею, Калмыков.
— И сожалений не требуется… кадетских! — вспылил Федя.
— Вот оно что? Главное — кадетских?
— Главное!
— Не совсем умно, коллега Калмыков.
— Но и не так уж глупо и неверно, Стронский!.. Я ударил охранника, шпика… Он Оскорбил меня и провоцировал на скандал.