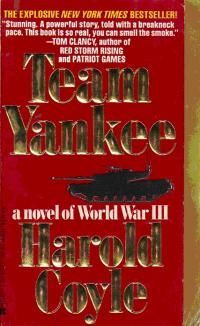— Это что же за «сенно-лиственное»? — спросила женщина.
— Вот так, товарищ капитан, и живем, русские слова скоро переводить нужно будет. Есть слово «сено». Есть слово «сени», а есть еще слово «сень». Древо осеняющее, под благую сень зовущее…
— Чехова любите? — спросил художник.
— Не турок же я, чтобы Чехова не любить. Это Ахматова, поэт такой есть, его не любила. А нам, как говорит товарищ капитан, чин и звание не позволяют.
— Воля ваша, вы бы и в устав записали Чехова любить?
— И записал бы, а что такого? И раньше записывали любовь в устав, и ничего, никто не возражал.
— Прямо в устав? — недоверчиво улыбнулся художник.
— Пожалуйста: «Всем офицерам и рядовым надлежит священников любить и почитать, и никто не дерзнет оным, как словом, так и делом, досаду чинить и презирать и ругатася…» «Устав морской», автор Петр Первый, 1720 год. Вот и решайте: долгополых этих полки и батальоны, а Чехов один на весь свет.
— Записываем в устав: любить Чехова. А кого из художников?
— Репин, конечно, — не задумываясь, сказал старший лейтенант. Художник и его модель переглянулись. — Суриков, если не возражаете… Если не возражаете, Рембрандт ван Рейн…
— Суриков, Репин — понятно, а Рембрандт-то зачем? — И в голосе художника прозвучал вопрос так, как спрашивают взрослые у детей, взявших в руки вещь дорогую и бьющуюся.
— Не мне вам говорить — художник громаднейший, даже в Эрмитаже в Ленинграде представлен. А у нас в роте о нем особый разговор.
— В вашей роте? Может быть, у вас в роте «Даная» висит?
— Чья Даная? — простодушно поинтересовался старший лейтенант.
— Рембрандта ван Рейна. Картина у него такая есть, как раз висит в Эрмитаже.
Спутница восхищенно смотрела на живописца.
— А вы, я заметил, тоже поклонник Рембрандта. А в роте-то вкусы разные: одному тициановская «Даная» нравится, а заряжающий Ширинов, это мой заряжающий, предпочитает Корреджо. В репродукциях, по альбомам. У нас этот вопрос одно время обсуждался, а потом резко сняли. Я сам же и снял. Если бы у меня не было вперед взглядов, а у меня всегда вперед взгляды были… Мы тут как бы люди взрослые, можно рассказать. Жизнь, знаете, есть жизнь, ее никуда не спрячешь, она о себе заявляет самым неожиданным образом. В казарме в расположении каждой роты, это никакая не тайна, положено иметь портрет члена Политбюро, на видном месте на стене в широком проходе. Желательно над тумбочкой с дезинфицирующими растворами, нитки-иголки, солдатская мелочевка, место посещаемое. В четвертой роте, это не у нас, повесили портрет Екатерины Алексеевны Фурцевой. Женщина красивая, представительная, может быть, чем-то и на Данаю похожа, все, как говорится, зависит от воображения. И что же? Пришлось снять. Вы уж извините, но солдаты на нее… онанировали. Культура, сами понимаете, не у всех на высоте, а слабаку в танке делать нечего. У нас замполит, талантливейший человек, сочинил в суворовском таком, знаете, лаконичном стиле, а художник исполнил, и вывесили: «Броня не терпит дряхлых мускул!» Так что народ, с одной стороны, на здоровье не жалуется, но, с другой-то, как-то нехорошо, и эстетически и нравственно. Как быть? И порицания выносили, и комсомольское собрание закрытое провели, все перепробовали. Пришлось перевесить Екатерину Алексеевну в третью роту. Казалось бы, кофточка застегнута у горла, правда, товарищ капитан? — обернулся старший лейтенант за поддержкой и получил ее в виде двух кивков головы. — Там, где грудь, депутатский значок, Верховный Совет… И в третьей роте то же самое. А ведь как еще на все это посмотреть? С одной стороны, ну, мальчишество, ну, максимум мелкое хулиганство. А с другой, можно взглянуть и как на политическую демонстрацию. А что? Пропагандист в полку уже хотел именно так вопрос ставить, надо же было как-то это все пресечь. Но замполит, мудрейший человек, велел перевесить Екатерину Алексеевну в Ленинскую комнату, и все. Вопрос закрыт. В Ленинской комнате не побалуешься. А вот к Рембрандту у нас, военных, особый интерес. Возьмите «Ночной дозор». Как офицеры представлены великолепно. Опять же любовь народа к армии. Отличная картина. Мы сейчас с вашего позволения по рюмочке еще пропустим, и у меня будет к вам вопрос. Знаете, с настоящим художником не так уж часто вот так вот приходится встречаться. Может, вы наш спор как раз и решите.
Офицеры выпили.
— Вы уж извините, что мы вашего собеседника на себя отвлекаем, — сказал капитан Вальтер, как бы присоединяясь к своему командиру взвода.
— Ничего-ничего, мне интересно…
— У нас есть в полку, конечно, художник, — закусив, сказал старший лейтенант, — но, можете себе представить, мазилка. Из тех, что шабашкой промышляют, столовые, коровники расписывают. Руку он набил, конечно, но такого, как у вас, чтобы прямо душа просвечивала, этого и близко нет. Я ж сужу, может быть, и примитивно, но по-другому не умею. Смотрю — это повторимо? Нет, неповторимо. Все, значит, это настоящее искусство. Не совсем, конечно, так, но это для краткости. Вон у вас краски какие — благородные, сдержанные. А про нашего покороче сказать — «Гоген доморощенный». Но речь-то не о нем, о Рембрандте. Спорим, а с места ни на шаг. Я вам напомню, да вы и сами лучше нас знаете, есть у него картина, называется «Апостол Павел». Ну, Павел и Павел. А в чем вопрос? А он с мечом! Не в руках меч, нет, конечно, за пазухой, а рукоятка торчит…
— Апостол Павел? Вот так сразу и не вспомню…
— Но вопрос в мече. Тема нам, военным, близкая. Кто отсек в Евангелии, когда Христа брали, ухо какому-то рабу? Известно — апостол Петр. А при чем здесь Павел, вернее, меч у Павла?
— Если уж у вас в роте про Пигмалиона знают, думаю, и с апостолом Павлом разберетесь, — заподозрив какую-то ловушку, ушел от ответа живописец. — Вот у меня встречный, так сказать, вопрос есть, я ведь тоже с военными не каждый день вот так встречаюсь…
— Это как товарищ капитан, все вопросы к нему.
— Спрашивайте, конечно, только, раз уж мы разговариваем, может, и представимся? Меня зовут Анатолий. Старший лейтенант — Михаил…
— Очень приятно, — сказал художник, но руки не подал. — Юрий. Елена. И вопрос мой как раз на эту тему. Вы же сейчас не на службе, насколько я понимаю, а обращаетесь друг к другу как будто в строю.
— Вы совершенно правы, — поспешил с ответом старший лейтенант. — Это ведь в каждой роте, в каждом батальоне по-своему. Как в народе говорят, в каждой избушке свои погремушки. А что в нашей избушке? Что у нас за окном? — И, не услышав ответа, сказал: — Нор-ве-гия! Страна натовская. Вам скажу доверительно: машины у нас в парке стоят с полным боекомплектом. Мало ли что. Тревога. Приказ. Массу воткнул. Давление масла поднял. Двигатель запустил — и вперед, за Родину!
— И вы верите, что Нор-ве-гия может на вас напасть?
— А это то же, что с Чеховым. Не наш вопрос. Наша задача — любить и защищать. Все. А теперь сами рассудите, сможет ли товарищ капитан, если будет меня Мишей звать, не моргнув глазом приказать мне со своим взводом пойти туда-то и умереть там с честью? Он мне скажет: Миша, иди… А я скажу: Толя, ты что, там убивают. А если он не может приказать мне умереть, то какой же он командир? Кое-где, конечно, все эти «Толя-Миша» бывают, но в случае чего ничего хорошего из этого не выйдет.
— Верно говорите, товарищ старший лейтенант, так что можно еще по рюмочке.
— Дело-то у нас крайне простое. Учимся убивать, правильно, товарищ капитан? — разливая водку, спросил командир взвода.
— Ну зачем же так резко, учимся поражать цели, с места и в движении.
— Товарищ капитан, как видите, у нас человек деликатный, а я еще добавлю наблюдательный. Это он с порога заметил сходство между Еленой и мужественной покорительницей Заполярья. Сходство поразительное. Вот все бы художники так рисовали!
Польщенный мастер расхохотался явно иронически, женщина зарделась.
— Может, за знакомство? — Старший лейтенант приподнял графин.
Юрий, продолжая смеяться, как бы отгородился от предложения ладонями.
— Похвалить художника за сходство, — отсмеявшись, сказал живописец, — это как певца похвалить за то, что ноты знает.
— А ведь вы правы, — сказал командир взвода, — художников надо хвалить умеючи. А спели вы Леночку ого-го. Можно сказать, воспели. Мы же в полку тоже часто обсуждаем формы поощрения. Здесь методика важна, даже у нас. А у вас, там, где эстетика, там же черт ногу сломит. Вы ж меня понимаете…
Художник поощрительно кивнул.
— Принято как считать? Для правильной оценки художественного произведения очень важно умственное и душевное развитие. Вы, Юрий, со мной согласны?
Судя по тому, как Лена взглянула на живописца, ожидая, что он скажет, у нее своего суждения на этот счет не было.
— Обе эти вещи, конечно, желательны, — примирительно сказал Юрий.
— Вот видите, желательны, и только. Стало быть, не самое главное. И здесь с вами согласится датский ученый Серен Кьеркегор. Вы его небось как облупленного знаете? Говорят, он считал, что для тех, кто судит об искусстве, для эстетиков, главное не умственное и даже не душевное развитие, а непосредственность.

![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)