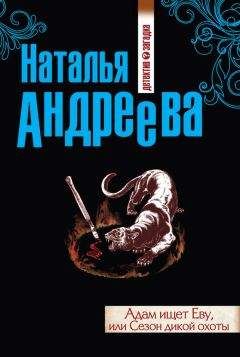Василий Матвеевич обратился к Якобине, словно рассуждая с самим собой:
– Ну что соль сыпать на раны, – лицо его стало доброжелательным, – тем более что теперь всем тяжёлое время выпало. Испытание. – И он перешёл на «ты» с непринуждённой свойскостью: – Не тебе горевать, вся жизнь перед тобой. Подкормиться – и такая станешь лошадка!
Девушка сидела на табурете не шелохнувшись, глядя на кисти рук, прижатые к коленям. От его сладких глаз никуда не деться. Он убрал бумаги в ящик стола, поднялся и, едва не задев девушку рукой, прошёл мимо, удалился из землянки. Послышался его голос – кому-то отдавал распоряжения. Возвратившись, опер, прежде чем занять место за столом, постоял, глядя на кровать.
Вошёл ординарец с двумя котелками, держа под мышкой завёрнутую в вафельное полотенце буханку хлеба. Регина Яковлевна, торопливо привстав, отодвинула табурет, хотя он не мешал солдату поставить котелки и положить хлеб на стол.
– Три! – распорядился уполномоченный, и ординарец подал, взяв их с прибитой к стене полки, три миски и три ложки.
Меж тем от котелков плыл такой нестерпимо-дразнящий аромат, что у матери и дочери задрожали ноздри. Отпустив ординарца, Ерёмин запустил руку в карман галифе, достал складной нож и, раскрыв, отрезал от буханки три куска. Затем налил в миску суп с тушёнкой, придвинул к себе, а две миски двинул пальцем к другому краю стола, поближе к лагерницам. Положив у мисок по куску хлеба, указал на второй котелок, произнёс благодушно, с ласковой ноткой:
– Кладите себе кашу по полной. – Ловя взгляд Якобины, улыбнулся – сама заботливость, – отметил смакующим тоном: – Рисовая каша – не баланда с мучной затиркой.
Девушка низко склонила голову, тихо сказала:
– Мне не надо. – Голос дрогнул, она вскинула глаза на опера: – Нет!
– А-ах, хороша-а! – произнёс Василий Матвеевич с тем же смаком, с каким говорил о рисовой каше.
Регину Яковлевну от поведения дочери обдало страхом, она обратилась к уполномоченному моляще:
– Мы вам так благодарны…
Он сказал проникновенно-серьёзно:
– Я помню Якова Альфредыча. Хлебосол был.
И, откусив кусок хлеба, стал есть суп. Ел увлечённо, на пористом носу заблестели капельки пота. Мать смотрела то на опера, то на дочь, которая с силой прижимала ладони к коленям. Ерёмин оторвался от еды, сказал с хитроватой укоризной:
– Не мне же вам кашу класть… в чём дело?
Регину Яковлевну мучили и голод и смятение: что ждёт дочь, если не удерживать руку, которая вот-вот потянется к котелку? и что случится, если руку удержать?
– Сейчас будет сигнал на обед, мы там поедим… – выдавила из себя с плачущей улыбкой.
Уполномоченный покончил с супом, произнёс сокрушённо, с проскользнувшей злой ноткой:
– Вот так люди сами себе вредят! И ещё и валят на кого-то. – С минуту сверлил взглядом недвижно сидящую Якобину, потом отчитал мать:
– Избаловали вы её! Допустили, что она в каких мыслях о себе! – он ещё помолчал, придвинул к себе котелок с кашей: – Идите работайте! И скажите бригадирше, чтоб прислала ко мне девушку Окс.
– Окст! – машинально поправила Регина Яковлевна, поспешно встав с табурета.
Ерёмин пропустил сказанное мимо ушей. Якобина была уже на ногах, она и мать покинули землянку почти бегом.
* * *
Степь, курясь испарениями, зеленела под солнцем вызревающими пыреем, медуницей, шалфеем; в эту майскую пору всё более калящие день ото дня лучи ещё не успели пожечь травы. Но вблизи землянок они были вытоптаны. Лагерницы, усевшись вокруг ям, руками загребали вязкую массу глины и песка с нарезанной соломой, наполняли ею формовочные ящики без дна, поставленные на деревянные щитки. Уплотнив ладонями «начинку», пригладив её, женщины относили ящики на щитках на пространство затверделой от солнца земли и, опустив, вытянув щиток из-под ящика, поднимали его, оставляя на площадке сырой кирпич. К нему добавлялся другой, ряд становился всё длиннее.
Мать и дочь, подойдя к работающим, сразу же взялись за дело. Регина Яковлевна, уже сидя перед ямой, сказала бригадирше:
– Гражданин уполномоченный вызывает к себе Анну Окст.
Подбористая бригадирша сильными руками вдавливала месиво в прямоугольную форму. Повела глазами, ища девушку, громко повторила услышанное, добавила:
– Где цистерна, ты знаешь. Напротив – пустые бочки, телеги. За ними будет его землянка.
Анна Окст поспешила к ведру с водой, вымыла ноги, руки, ушла.
Вовсю шпарило солнце, у лагерниц, которые трудились тут не первый день, шеи были почти черны от загара. Якобина, за нею Розалия Вернер и Регина Яковлевна отнесли на площадку по кирпичу-сырцу. Раздался гулкий звук удара в таз, бригада направилась следом за бригадиршей обедать. Когда повар начал наливать в миски баланду, появилась Анна: ладно сложённая, миловидная, она сейчас поджимала губы и ни на кого не глядела насторожёнными глазами, зная – на неё глядят все.
* * *
Когда, покончив с обедом, лагерницы возвращались на вытоптанный клочок степи, где им предстояло изготовлять саман в нарастающем накале долгих дней, Регина Яковлевна тронула руку дочери: мучилась от того, что хотела сказать и не могла. Наконец у неё вырвался шёпот:
– Рисовая каша – такая калорийная… где ещё рис увидишь…
Девушка встала как вкопанная:
– Чего ты от меня хочешь, мама?
Проходившие мимо прислушивались. Якобина пошла быстрым шагом.
Поздно вечером после работы лагерницам выпадало немного свободного времени. Одна из выступающих из земли стен землянки не имела окон, и Регина Яковлевна позвала сюда дочь. Шагах в тридцати отсюда располагался нужник без двери: на неё не дали досок. От отхожего места наносило запашок нечистот. Солнце село, жёлтая полоса над горизонтом рассасывалась, уступая лёгкой полутьме, заполнявшей небосклон.
Регина Яковлевна тихо заплакала.
– Ты должна выжить… должна, должна… – повторяла, всхлипывая, обнимая дочь.
Та прошептала:
– Я выживу.
– Я не смогу смотреть, – выдохнула мать, – как Анна, другие девчонки питаются, благодаря… да! а к тебе прилипнет любая болезнь, и ты не встанешь. Этот человек благодарен твоему деду, ты в лучшем положении, чем остальные… – чувство вины перед дочерью не давало Регине Яковлевне говорить, а страх за неё заставлял: – Надо принять помощь, – выговорила она, в горле пересохло.
Якобина глубоко, нервно вздохнула.
– В Библии сказано о чечевичной похлёбке.
Мать не сразу поняла: растерянная, старалась разглядеть в сумраке выражение лица дочери. И вспомнила старинный сундук, оббитый воловьей кожей, в котором до выселения берегла Библию, другие книги на немецком языке. Они вместе с сундуком достались от деда – школьного учителя и регента церковного хора поволжской немецкой колонии Бальцер. За хранение Библии Регину Яковлевну бы не похвалили, а она ещё и рассуждала о ней с дочерью, когда та была подростком. Потом, правда, прекратила это, но Якобина уже и сама заглядывала в сундук.
Сейчас, когда обе, голодные и измученные, стояли впотьмах у землянки, где ждали духота и нары, Регина Яковлевна воззвала подавленно:
– Ты не в себе? – и едва не схватила себя за голову: – Из нас жизнь уходит, а ты – о ветхозаветном…
Дочь странно спокойно кивнула, пересказала по памяти некогда прочитанное в Библии:
– И сварил Иаков кушанье, а Исав пришёл с поля усталый. И сказал Иакову: «Дай мне поесть этого красного». Иаков сказал: «Продай мне своё первородство». Исав сказал: «Я умираю, что мне в этом первородстве?» И продал первородство своё Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы: и он ел и пил… – последние слова Якобина произнесла с ноткой презрения, заключив: – И правда пример.
– Но Исав на самом-то деле не умирал! – страстно прошептала Регина Яковлевна. – Он не был в лагере, его не доводили до того, до чего довели нас! И там совсем о другом: о первородстве!
Дочь возразила:
– Не о другом.
– Доченька… – мать всхлипнула, – опомнись! Сейчас не до мудростей, надо видеть то, что есть, надо выживать… – она торопливо шептала о том, что пища – это пища для тела, для ума, для духа, и если думать не о ней, а о мудростях, немудрено предсказать, чем кончится…
Пора было в землянку.
* * *
Какие жёсткие нары. Какой спёртый воздух, хоть и открыты узкие, с решётками, окна. Как тяжело дыхание спящих, которыми полна землянка. Регина Яковлевна не могла забыться сном: её поедом ело – что будет с Якобиной? Мать сравнивала себя с дочерью. Выросшая в немецкой верующей семье, Регина Яковлевна до девятнадцати лет не знала поцелуя. Дочери восемнадцать; год назад, предвоенной весной, она ходила на танцы с однокурсником. Он был русский парень, в начале войны его направили в артиллерийское училище в Ростов-на-Дону. Когда, попрощавшись с ним, Якобина пришла домой, мать спросила:
– Ты хоть с ним поцеловалась?
Девушка, густо покраснев, кивнула. Пылкой влюблённости в ней не замечалось, мать понимала: кроме поцелуев, между дочерью и парнем ничего не было.

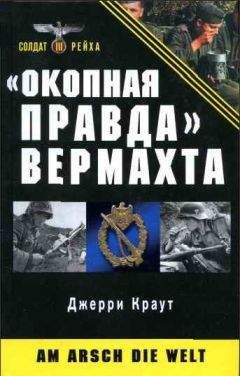
![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)