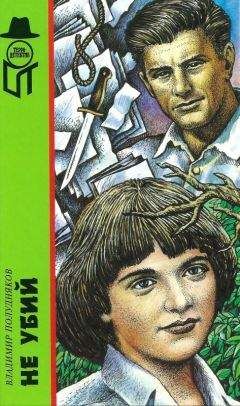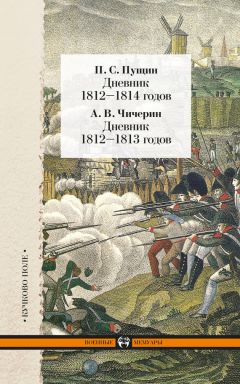— С приездом, Дмитрий Кириллыч!
— А со мной не поздороваетесь? — говорит боярышня.
Тут я и ее по голосу узнал.
— Ирина Матвеевна! Так вы вовсе, значит, и больны не были?
— Я никогда не болею. Дмитрий Кириллыч у нас же ведь остановился, чтобы Варвара Аристарховна не догадалась.
— И наряд этот сами себе смастерили?
— Куда уж мне! Не такая мастерица. Дмитрий Кириллыч из Петербурга привез, в театре напрокат взял; отсюда назад отошлет.
Тут Луша вернулась:
— Пожалуйте, господа!
Раскрыла нам дверь в гостиную. На диване старики Тобухины восседают с моей матушкой; по сторонам в креслах — Варвара Аристарховна с братцем. Поводырь же, выведя на средину комнаты медведя (конюха Филатку в вывороченном наизнанку тулупе), разные штуки выделывать его заставляет:
— А ну-ка, Мишенька, покажи господам, как малые ребята горох воруют… Как красные девицы белятся, румянятся и в зеркальце глядятся…
Но музыкант дворовый, кучер Флегонт, окончания комедии не дождавшись, на гармонике «Как у наших да у ворот» заводит — и медведь в пляс пускается, на цепи поводыря за собою тащит, а за ними и вся компания увязалась. Прыгают, кружатся, толкаются, ножки друг дружке подставляют.
Тут и я летом вперед вылетел, колесом пошел и господам на диване земной поклон отвесил. А Петя-шалун только того и ждал: скок мне на спину; и повалились мы оба — я ничком, а он кубарем через меня. На сем моя роль и закончилась.
На пороге опричник показался, за ним молодой боярин об руку с боярышней, а опричник перед ними метлой своей дорожку выметает.
Аристарх Петрович на диване лукаво усмехается, старушки шушукаются, а Варвара Аристарховна словно остолбенела, глаз с гостей не сводит.
Но вот опричник за фортепиано садится, заиграл «русскую» — и поплыла лебедью боярышня, плечами поводит, платочком машет-прикрывается, ручкой боярина манит, а он, бока подперши, гоголем кругом ее обхаживает, да вдруг как ударит в ладоши, каблуками притопнет, ухнет, гикнет — и пошел вприсядку.
Но доплясать им тоже не пришлось. Варвара Аристарховна с кресла к боярину подлетела и маску ему с лица сорвала.
— Митя мой!
Да на шею к нему. Целуются-милуются…
— А про нас, Дмитрий Кириллыч, вы и забыли? — говорит Аристарх Петрович.
Пошел он к ним. Подозвал и опричника, знакомит:
— Позвольте представить вам моего спутника: юнкер Семен Григорьич Сагайдачный.
Тот снял тоже маску: совсем еще молоденький, не старше меня; усики едва пробиваются, но глаза с хитрецой, вкрадчивые, так в душу тебе и заглядывают.
— Сагайдачный? — переспросил Аристарх Петрович. — В Запорожской Сечи, сколько помнится, был знаменитый кошевой атаман Сагайдачный?
— Родоначальник мой, — говорит юнкер. — А по женской линии я племянником довожусь министру графу Разумовскому.
— Алексею Кириллычу? О! Родным племянником?
— Не то чтобы родным, а так… в третьем колене. Однако, простите: я заставляю ждать танцоров.
И уселся опять за фортепиано, командует по-военному:
— Стройся: кадриль!
Шмелев за ручку на сей раз уже не свою боярышню берет, а невесту.
— А кто же, — говорит, — будет нашим визави?
— Ириша. Кавалера себе она пусть сама выберет. Ириша озирается на «кавалеров» и подходит к Аристарху Петровичу:
— Позвольте просить вас…
— Нет уж, — говорит он, — мои годы прошли. Тогда она с внезапной решимостью ко мне:
— Пойдемте, Андрей Серапионыч.
Я тоже было на попятный: никогда-де танцевать не учился…
— Ничего, — говорит, — я вас научу. Только снимите, пожалуйста, ваш противный нос!
— А вы вашу маску.
Так, в своем всегдашнем уже обличье, мы рука об руку стали против жениха и невесты.
Господи Боже Ты мой, что это была за кадриль! Я без конца путал, а она меня пресерьезно наставляла.
Да и как было не путать? Танцевала ведь со мной боярышня в древнерусском опашне, в венце жемчужном в виде терема в три яруса; а из-под венца на меня две яркие звездочки сияли…
— Знаете ли что, Ирина Матвеевна?.. — говорю я ей.
— Что?
— Вы теперь как будто… не знаю уж, как сказать…
— Выше ростом. Это оттого, что не в коротком платье.
— Нет, не то… В этом пышном наряде вы и лицом вдвое пригожей, как есть писаная красавица.
Вспыхнула и глазками блеснула.
— Вы думаете, что мне всего пятнадцать лет, так можете мне всякие глупости говорить!
— Простите, но видит Бог…
— Прощаю. Годами вы хоть и на три года меня старше, а все еще мальчик.
— Мальчик, да инвалид: кровь за отечество проливал.
— А плечо у вас разве еще не зажило?
— Зажило; даже в дурную погоду не ноет.
— Вот видите. А по вашему дневнику можно было думать, что вы на смерть ранены.
— Так Варвара Аристарховна показывала вам мой дневник?
— Да, мы его вместе читали и…
— И смеялись?
— Нет, горячими слезами обливались! Чтобы вам, право, писать опять дневник? Я очень люблю посмеяться.
Невеличка птичка, а ноготок востер! На этом кадриль кончилась, да и разговор наш с Пришей. Подали сласти; дворовых тоже пряниками и орехами оделили.
Но свеча почти догорела, а вот и часы бьют, — три часа ночи! Остальное уже завтра.
Кто подарил дневник. — Про Наполеона, Александра I, Кутузова и графа Дмитриева-Мамонова. — Кандидат в «мамоновцы-мамаевцы»
* * *
Января 7. Продолжаю. Вчера, в день своих именин, только что встал, налил себе чаю (маменька в кухне именинный пирог готовила), как откуда ни возьмись босоногая девчонка.
— Велели передать.
И подает мне пакетец.
— Да ты от кого?
— Не велено говорить. И шмыг за дверь.
Развернул: увесистая тетрадь. Перелистываю: одни белые страницы. Но на первой надпись печатными литерами (дабы почерком своим, значит, себя не выдать):
Дневник А.С. Пруденского
Ириша! Ясное дело. Иду в кухню.
— Вы, маменька, кого на пирог позвали?
— Да всех Толбухиных с гостями.
— А Елеонских?
— Пока-то нет. Думала: нынче на водосвятии поспею. Да вот с пирогом, вишь, замешкалась…
— Так я, маменька, буду на Иордани, скажу им. Хорошо?
— Скажи, милый, скажи.
И вот, на Иордани, когда молебствие отошло, я — к о. Матвею:
— Так и так, батюшка: не пожалуете ли к нам на именинный пирог?
— Спасибо, дружок, благодарствую. Ну а матушка-попадья моя на ломоту свою опять жалуется.
— А Ирина Матвеевна?
— С нею ты лучше сам уж поговори. У нее нынче семь пятниц на неделе.
Побежал я, нагнал ее, приветствую.
— Здравствуйте, — говорит, а сама шагу прибавляет.
— Да куда вы так торопитесь? — говорю. — Я хотел просить вас тоже на именинный пирог…
— А кто у вас именинник?
И глядит на меня, лукавица, так невинно-вопросительно, что меня снова сомнение взяло.
— Именинник — я сам, — говорю. — А вы разве не знали?
— Откуда мне знать? Мало ли Андреев в святцах? А у самой раскрасневшиеся от мороза уши и щеки еще ярче зарумянились.
— Какая-то добрая душа, — говорю, — презент мне сделала — тетрадь для дневника.
— Вот как? Очень рада. А на пирог родителей моих вы пригласили?
— Пригласил. Батюшка ваш обещал быть.
— Так и я с ним буду.
Пирог матушка испекла на славу. Все похваливали; а кто и от второго куска не отказался. Пирог, как полагается, чаем запили; за чаем разговорились.
— Так дело, значит, решенное, — говорит Аристарх Петрович: — наши войска границу переходят?
— Первого числа должны были быть уже за Неманом, — говорит на это Шмелев.
А о. Матвей со вздохом:
— Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Мало крови еще на родной нашей ниве пролито; надо, вишь, и чужие обагрить!
— Простите, батюшка: это все равно, что кровопускание тяжкобольному: вовремя не пустить ему крови, так не выживет.
— Да кто, по-твоему, сын мой, тот тяжкобольной? Что-то в толк не возьму.
— А как же, весь Запад Европы. Под игом ненавистного завоевателя все народы там стоном стонут. На престолы Италии, Испании, Вестфалии свою родню он понасажал, и слушаются они его слепо во всем, как Великого Могола. Швейцарский союз дань платить себе заставил. Из немецких монархов один лишь тесть его, император австрийский, не подпал под его тяжелую руку и обеспечил себя дружеским договором. Прусский король еще кое-как выворачивается, но с опаской и оглядкой. Остальные же германские короли и герцоги перед злодеем пикнуть не смеют; что прикажет, то и делают.
Тут и я смелость взял, от себя добавил:
— Ведь и к нам, в Россию в прошлую кампанию сколько этих саксонцев и баварцев, виртембержцев и баденцев нагнал! И все-то почти, по его милости, костьми у нас полегли.